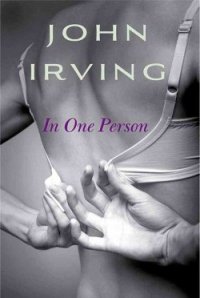Семья - Федорова Нина Николаевна (читать книги онлайн бесплатно полные версии txt) 📗
Ночь была как-то особенно тиха и печальна. Луна сторожила над миром усталым безрадостным глазом. Легкий туман, дыхание спящей земли, поднимался и плыл под луной. Он был темен внизу, у земли, но, поднимаясь, делался редким, светлее и легче. Редея, он поглощал лунный свет и сам превращался в опаловое сияние. Он смягчал очертания зданий, все лишал цвета, стушевывал разницу между землею, деревом, камнем – все сливалось, все делалось только собственной тенью. Ничего, казалось, не имело ни своей глубины, ни веса, все было призрак и тень.
«Этого не может быть, – думала Мать, – это мне снится. Ночь никогда не бывала такой…»
Она посмотрела вокруг.
«Не эти совсем деревья, – думала она. Обернулась, взглянула на дом. Без единого света в окнах он казался каким-то плоским, пустым внутри, давно брошенным, чужим домом. – И дом не тот, – думала Мать, – все это снится».
Мир был – свет, поглощаемый тенью. Тишина. Печаль и безнадежность.
Где– то начали бить часы. Звуки падали глухо, как будто бы их бросал кто-то сверху.
«Полночь», – подумала Мать и опять задрожала.
– Принес деньги? Давай! – сказал бродяга свистящим шепотом.
Петя дал ему деньги. Бродяга зажег спичку, чтобы проверить.
– Правильно. Теперь пошли. Прощайте, мадам! Будьте здоровеньки!
И они ушли.
Они ушли из сада. Хлопнула калитка. Шаги звучали уже по каменной мостовой переулка, звучали странно, трое шли не в ногу.
Из сада – в переулок, из переулка – на широкую улицу – Петя уходил все дальше и дальше – из города, из Китая, из жизни Семьи.
Мать бросилась за ним. Но она знала, что не надо этого делать. Она остановилась у калитки и стояла там, схватив железный болт руками, крепко-крепко. О, эта человеческая бедность, бессилие управлять своею судьбой!
Дверь скрипнула, и Собака вышла из дома. Медленно, тяжелым шагом она сошла с крыльца и стала около Матери, низко повесив голову. Мать не замечала Собаки. Собака чуть поворчала. Мать не слыхала ее. Тогда Собака лизнула ее руку, как бы говоря: «Пойдем домой. Простудишься. Горевать можно и дома».
В эту ночь Мать впервые видела во сне покойную Бабушку.
Бабушка подошла к ее постели – шла она по воздуху – и склонилась над лежащей Таней. Она была одета странно, как в жизни никогда не одевалась. На ней было простое крестьянское платье, какое женщины носили когда-то в ее имении, и голова ее была повязана белоснежным платочком. Кончики были аккуратно расправлены и подвязаны под подбородком. В руке она держала небольшой узелок, завернутый тоже в белоснежный платочек, и, подавая этот узелок Тане, она сказала:
– Не печалься, Таня, не горюй. Вот и вся твоя теперь ноша. И узелок чистенький, небольшой, да и нести недолго.
Потом все потемнело и исчезло. Виднелась дольше всего Бабушкина рука и узелочек, потому что от них исходил свет.
21
Собака предчувствовала горе.
Как бы понимая, что предстоит разлука, все последние дни перед отъездом Димы она была в состоянии большого нервного беспокойства: то вдруг повоет без видимой причины, то заскулит, обняв Димины старые ботинки, то лежит, как мертвая, у его постели и не слышит, если ее окрикнет кто другой, не Дима.
Она начала лаять на каждый упакованный сундук и кидаться на людей, приносивших вещи для миссис Парриш. Дима же уделял Собаке все меньше и меньше внимания. Он покидал больше, чем только Собаку, и когда он думал об отъезде и разлуке, не на ней концентрировались его мысли.
В эти тяжелые для всех дни профессор поддерживал духовное равновесие дома № 11.
Диме он объяснил, что такое сентиментализм, поскольку он презренен и не мужское дело. Познакомил его со специальной литературой: «Робинзон Крузо», «Морской волк», «Остров сокровищ»; ежедневно сообщал ему все новые и все более захватывающий дух сведения о путешествиях и путешественниках. Уже было жаль, что и Марко Поло и Христофор Колумб сделали свое дело. Хотелось и самому скорее уехать, так как профессор туманно намекал, что в мире есть еще неоткрытые земли, ожидающие своих открывателей.
Мать делала героические усилия, чтоб неосторожное слово, слеза или вздох не смутили настроения Димы. Даже за последним ужином вместе они сидели как обычно, оживленные, как всегда, только спать все пошли пораньше.
В последнюю ночь Диму уложили спать в столовой, на Бабушкином диване. Мать разостлала для себя матрас у дивана и всю ночь притворялась, что спит.
Вверху, в своей комнате, сидела всю ночь миссис Парриш, притворяясь, что вяжет.
«Как это случается, – размышляла она, – что один человек проживет долгую жизнь, не сумев привязать к себе никого, а другой там же делается центром всеобщей любви, как магнит, притягивает всех, и все делятся с ним радостью, горем – всей жизнью? Такой была Бабушка и сейчас становится Мать. Почему всем вокруг так естественно называть ее мамой? Даже старый профессор начал называть ее так. Что делает людей любимыми? Их страдания? Нет, я тоже страдала, но это меня ни к чему не привело и ничему не научило. Любовь? Но почему же многие любят и не видят ответной любви от людей, как, скажем, профессор? Подвиг? Но не смеялись ли все над леди Доротеей? – И она пропускала петлю за петлей, невнимательная к своему вязанию. – Доброта? Но можно ли быть добрее Анны Петровны, и все же люди предоставляют ей сидеть спокойно в углу, а Матери не дают ни минуты покоя. Нет, очевидно, нужны и все эти качества вместе, и какая-то счастливая гармония их, чтоб создалась, например, Бабушка. Что же, люди уже рождаются такими, или нужна глубокая работа над собой, чтоб стать таким человеком? – И опять она пропускала петли вязанья. – В одиночестве к старости делается страшно. Но я увожу Диму. Он согревает мне сердце. Когда я с ним, я вижу мир не моими критическими глазами, а его – счастливыми, детскими. Я беру его от Семьи, но любит ли он меня? Не стану ли я для него тенью, упавшей на радостное детство? Свою тетю он называет мамой, а меня ни разу не назвал даже тетей, только «дорогая миссис Парриш», как и все другие. Не больше. Здесь я – чужая или вообще везде; Кто ни войдет в дом, Мать уже наливает чашку чаю и с ней отдает пришедшему часть своего сердца. Почему никто не постучит ко мне и не скажет: «Миссис Парриш, дайте мне чашку чаю!» Что отделяет иных людей от остального человечества и обрекает их на одиночество? С другой стороны, хотела ли бы я сделаться такой, как Бабушка? Нет. Мне чужда эта сердечная открытость, эта доступность для всех. Меня унижала бы жизнь с сердцем, открывающимся, как незапертая дверь, для всех. Нужно ли это вообще? Разве нельзя без этого быть полезным человеком? Я имею свой метод во всем. Зачем именно обнимать и целовать бедняков, чтоб они рыдали у меня на груди, когда можно помочь и не видя их, на расстоянии? Я сделала много для помощи населению в этом городе, спокойно посылая мой чек кому следует. Да, сколько я раздала денег? – Вдруг при слове «деньги» что-то дрогнуло в ней. – Так я даю только деньги. А за деньгами ли я льнула к Бабушке? Деньгами ли она помогала мне? И спасли ли бы меня деньги? – Она отложила вязанье. – За деньги ли и Бабушка нянчилась со мной, как будто бы я была ее больное дитя? Да, помимо видимых связей между людьми – жена, брат, муж, сын – есть еще другие, не обусловленные родством, связи жалости, сострадания, любви, и они самые сильные на свете, именно они и соединяют людей в семью. Разве нет у меня родственников в Англии? Разве там нет детей? Но я увожу Диму».
Утро, о котором и Мать и Лида боялись думать, наконец наступило. Его нельзя было отложить, и от него невозможно было спрятаться.
День начался оживленно, но вполне спокойно. Утренний чай был невиданной роскоши: и с молоком, и с сахаром, и с хлебом, и с маслом. Даже огромная яичница была подана, и в ней краснели кусочки ветчины. Это было сильное средство, чтоб подбодрить тощих обитателей дома № 11. После завтрака все собирались к пароходу провожать миссис Парриш и Диму. Дома оставался только Кан, да еще Собака. С ними и должен был попрощаться Дима.