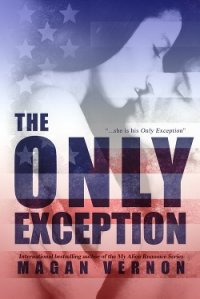Саммер - Саболо Моника (бесплатные полные книги .TXT) 📗
Но произошло ли это на самом деле? Разве Марина рыдала, сидя в заляпанной блузке? В следующие выходные она победно улыбалась — платье-сари, упругие, загорелые плечи. Она широко раскинула руки, заключая нас в объятия; ее спокойствие и уверенность вызывали уважение.
Единственное бедствие порой возникало в виде какого-нибудь чрезмерно раскрасневшегося мужчины в мятой рубашке. Тогда папа хлопал гостя по плечу, забирал у него ключи от машины и подмигивал нам.
Первого августа, на Национальный праздник Швейцарии, родители всегда устраивали большой прием в саду. Помню, на ветки тогда вешали маленькие лампочки, которые отбрасывали на лужайку оранжевые кружки света, помню людей в маскарадных костюмах под звездным небом. Гости без стеснения садились на траву, а иногда кто-нибудь раздевался и прыгал в воду.
Как-то раз вечеринку сделали тематической — называлась она «Черно-белое». На нее мама выбрала соответствующий наряд: облегающий комбинезон телесного цвета с нарисованным на нем скелетом. Издалека казалось, что у нашего дома стоит и курит сигарету чей-то оживший труп. Но главное, казалось, что мама была совершенно голой.
А в то лето, когда она переделывала себе нос, ей пришло в голову нарисовать на лице швейцарский флаг — и бинт играл роль креста.
Она любила такие вещи.
На маскараде всегда было полно детей в костюмах диких зверей или привидений. Мы устраивались под деревьями и, прижимаясь друг к другу, рассказывали страшные истории при свете бумажных фонариков. Сестра, переодетая божьей коровкой, первый раз поцеловала мальчика именно на первое августа.
Помню женщину, которая наклонилась ко мне, покачиваясь на высоких каблуках: «Ты должен небеса благодарить, Бенжамен, каждый день благодарить. Всем бы такую семью, как у тебя».
И я благодарил небеса. Иногда я молился у кровати, вставал на колени, складывал руки, как в сериалах, и просил бога оберегать мою семью до скончания веков. Ведь папа, защищая какого-нибудь преступника или политика, порой получал письма с угрозами. А когда он представлял в суде интересы русского бизнесмена, к нам на несколько месяцев приставили охрану. Той зимой у дома неделями дежурили полицейские. Ночью я слышал, как они ходят с работающими рациями по дорожке. Сестра с подружками выносили им то кастрюльку с разогретой едой, то термос с кофе, а потом бежали домой, придерживая ладошками юбчонки и хихикая от волнения.
И за маму я беспокоился: каждое утро она сидела на кухне, слушала маленькое переносное радио у забитой окурками пепельницы и смотрела в окно, словно заглядывала в другую жизнь, или мечтала о чем-то.
А еще меня накрывала горячая волна неуверенности в том, что я достоин находиться рядом с такими, как они. И не только из-за внешности, хотя вместе мы выглядели странно: они — красивые, золотоволосые, а я — с темными патлами, неловкий и хмурый. По крайней мере, мне так казалось, когда я смотрел на себя в зеркало в ванной и думал: в кого я такой? Может, они меня где-то нашли? В лесу? В болоте? Но они еще и держались великолепно, всем нравились, хотя особых усилий к тому не прилагали, а мне совершенно не удавалось вести себя естественно. Меня все время занимали какие-то мысли. Мама как-то призналась, что думала, будто я глухой — до трех лет от меня никто не слышал ни единого слова. И мне даже пришлось пройти проверку слуха, сидеть в темной комнате — я так боялся остаться в ней навсегда! Мама стояла с другой стороны, за стеклом, и, хотя улыбалась мне, выглядела обеспокоенной.
Мне всегда казалось, что я появился на свет слишком поздно. Что самое главное в моей семье, все крупные события произошли еще до моего рождения. За столом часто рассказывали семейные истории — о том, как родители познакомились на каком-то ужине в Париже, о мамином свадебном платье, которое бабушка назвала «блядским», о том, что Саммер часто падала в детском саду. Она любила прыгать с горки или просто со стула и возвращалась с прогулки из парка с окровавленным подбородком или с огромной шишкой на лбу. Детский врач прозвал ее «леди суицид». Ее даже пришлось записать на дзюдо, чтобы она «научилась падать» — и это казалось мне абсурдным, совершенно невероятным.
Раньше все было по-другому. До моего появления на свет. Я всегда так думал. Убеждался, рассматривая старые, сделанные до моего рождения, фотографии — воспоминания о времени, которое прошло без меня. Вот родители, они до смешного юны, плывут в гондоле в Венеции. На маме лыжная куртка, она сидит на какой-то террасе, у нее длинные волосы (длинные!). Вот папа, у него в руке ракетка, он стоит у теннисного стола. Вот мама в купальнике, которого я никогда не видел, держит за руку голенькую Саммер; они на пляже. Вот папа с сестрой — она в белой хлопковой панамке, у нее вьются волосы — катаются на надувной лодке. Вот Саммер собирается в школу: у нее сумка через плечо, она в цветастой блузке. Вот папа и мама с сестрой в парке — лежат на коврике в клетку (никогда не видел), улыбаются в объектив фотоаппарата и кажутся счастливыми.
Мы с доктором Траубом смотрим на грязный и немного измятый листок (как же так, ведь минуту назад он был белее белого и как будто ждал от меня правды и ничего, кроме правды), мы молча разглядываем имена, которые я только что на нем написал: мое имя и имя Саммер находятся на одном уровне, но разделены огромным расстоянием, чуть выше — имена родителей, к которым от наших с сестрой идет дрожащая линия, сделанная карандашом.
В то утро доктор Трауб надел рубашку из синтетики, каких давно уже никто не носит, и потому ужасно потел. Когда сестра пропала, я неделями представлял странную сцену: Саммер толкает дверь в здание с большими окнами и стенами тоньше картонки и подходит к прилавку, за которым стоит женщина в рубашке из такой же материи; она улыбается сестре с искренней готовностью выслушать посетительницу — не важно каким, мрачным или душещипательным, окажется ее рассказ — и посочувствовать ей.
Доктор Трауб надел очки, поднес листок к глазам, чуть склонив голову, и я обнаружил, что макушка его гола, как колено. Потом он устроился поудобнее в кресле, поднял очки на лоб и впился взглядом в меня:
— Так. Расскажите о них.
Я глубоко вдохнул, словно собирался нырнуть глубоко-глубоко за чем-то перламутровым, погребенным под толщей воды и песком — за раковиной? Или за амфорой. Или за ядовитым животным.
— Моя сестра исчезла…
— Исчезла? — повторил доктор Трауб. Его голубые глаза не выражали ничего; они казались пуговицами, обтянутыми светлой тканью.
Тогда я понял, что доктор Трауб никогда не слышал ни о Саммер, ни о нашей семье. Я был ошеломлен. Я понял, что девушки могут испариться, стать дыханием ветерка или пением птиц. Или разложиться где-нибудь в лесу в куче набросанной второпях земли под действием времен года, дождей, червей и стать кучей костей, чистых и белых, и лежать под ногами гуляющих, ничем не выдавая себя. И никто о них не вспомнит, не прочтет молитву — их имена уже ничего никому не говорят. Они тихо позвякивают, как колокольчики в летнем небе. И тогда, хотя прошли годы и годы, я заплакал, как мальчишка, как чертов сопляк. Я так давно не думал о сестре, что уже и не помнил, когда в последний раз произносил ее имя.
Дома я все узнавал последним: «еще маленький», «пока не понимает», «слишком чувствительный» (или, может, я считался дурачком?).
А кое-что в семье случалось. Вернее, вне семьи.
В Бельвю жизнь наша была подчинена папиному расписанию. Я столько раз слышал, как мама спокойно, подчеркнуто мягко спрашивала его по телефону, когда он собирается вернуться. Голос ее казался легким ветерком, скользящим по мебели, по светлым и ужасно пустым комнатам; он летел ко мне и прятался за дверью. Мама слушала, а отец на том конце провода объяснял что-то сложное; мама рылась в сумочке в поисках сигареты, чтобы сохранить спокойствие, наверное. Мы — мама, Саммер и я — постоянно ждали папу, и пока он не возвращался — малышом я считал, что это случается только когда собираются гости, — мама то волновалась, то витала где-то в облаках, то выходила из себя, как будто уставала от одного нашего присутствия, как будто ее связывал с отцом — где бы тот ни находился днем и особенно по вечерам, когда его жизнь текла параллельно нашей, — провод под высоким напряжением.