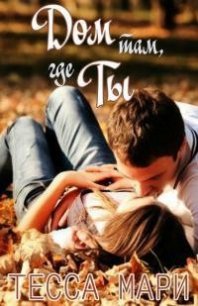Прощайте, призраки - Терранова Надя (книги полностью TXT, FB2) 📗
— Мы все выбросим, — произнес Никос, указывая на «Монополию» (в нее я любила играть, когда училась в начальной школе), «Клуэдо» [5] (открыв в себе способности к дедукции, я не раз побеждала маму в этой игре), «Гуся» (я ставила на поле четыре фигурки, делая вид, будто в игре четверо участников), пазл с картиной Пикассо «Ребенок с голубем» и мою любимую игру скребл с пластиковыми буковками.
В последние рождественские каникулы, когда отец еще был с нами, мы играли в скребл втроем, придумывая все более длинные слова. Ближе к окончанию игры я опережала обоих родителей, мама шла второй, отец третьим. Неожиданно он выложил на игровом поле слово «перемещение» и обставил нас с матерью. Глаза отца загорелись, и мне померещилось, будто юго-западный ветер поднял в них стремительную синюю волну.
— Я сама решу, что выбрасывать. Вы, пожалуйста, займитесь своей работой, ее у вас и так хватает, — резко ответила я Никосу.
Моя мать и его отец теперь обсуждали график работы. Ремонтировать нашу крышу Де Сальво будут каждый день с семи утра до пяти вечера, а по возможности и дольше, чтобы не терять предзакатного времени, когда еще светло и уже не так жарко. Я посмотрела на Никоса и заметила длинный шрам на его левой скуле. Пока наши родители переговаривались, мы молчали. Дети умеют быть молчаливыми.
Оставшись одни, мы с матерью пообедали. За едой мы перемолвились всего несколькими фразами («Почему ты вчера вспомнила про Пупса?» — «Про кого?» — «Ну, про Пупса, соседа из дома напротив». — «Ты ему нравилась, мама». — «Что за глупости?!» — «Он сидел на балконе ради тебя». — «Перестань чепуху молоть!»). Переждав самый зной, вышли на крышу. Я стала озираться вокруг, ловя на себе лучи заходящего солнца. Взгляд заскользил по балконам других домов, старым антеннам, белью на сушилках, по распадающимся на клочки облакам, по застывшим у причала кораблям, по военному порту, согнувшемуся крючком и настороженному, будто дикий вепрь. Привычные глазу объекты были такими же, как и всегда, — блеклыми, полусонными, невыразительными. Внутренним взором я увидела себя — маленькую девочку, которая дождалась воскресенья, вышла на террасу вместе с родителями, открыла дверь кладовки, вывела большую красную машину, уселась в нее, крутнула руль и покатила от стола к качелям. Отец неподвижно стоял, засунув руки в карманы, мать оперлась на парапет и глядела на море в ожидании возвращения чего-то, что нам было не дано различить. От того мира не сохранилось и следа. На террасе уже почти не осталось вещей, а после ремонта исчезнут и последние воспоминания.
— Все будет, как было, только пол сделают новый, — скороговоркой выпалила мать, по-видимому чувствуя мой страх.
Я села на корточки, прислонясь спиной к стене кладовки. Крыша разваливалась, продолжая быть самым красивым местом во всем доме, во всем городе, да нет, в целом мире. Возможно, она начала рушиться именно из-за того, что стеснялась собственного великолепия. Белый свет над проливом, чуть разреженный туманной дымкой, полнился чудесами. На фоне моря четко вырисовывались кроны прибрежных пальм, листья которых были поражены красным долгоносиком.
— Все пальмы в этой дряни, — вздохнула мать. — Все до единой. Что ж за напасть-то…
Мы долго сидели на крыше, наблюдая, как свет над проливом меняется с белого на темно-синий, и прислушивались к симфонии звуков нашей улицы. Людские голоса раздавались то громче, то тише, мелодия постоянно менялась; эти голоса говорили за нас, говорили вместо нас, потому что, если и существовал в мире такой вид искусства, которым мы с мамой овладели за годы моего отрочества, это было искусство молчания.
Каждый вечер за ужином, с усилием кладя столовые приборы рядом с хрустящей подгорелой курицей, пресным салатом из помидоров, частенько пересоленным супом, мягким сыром и тертой морковью, куриной печенкой и мясными консервами, сетуя, что холодильник перемораживает столовую воду, а духовка плохо печет, мы с мамой пытались продемонстрировать отцу, что у нас получается жить без него. «Мы и сегодня не произносим твоего имени», — сообщали мы ему, от усталости роняя на пол салфетки и не имея ни малейшего желания поднимать их. Затем, велев отцу остаться за оградой неописуемого хотя бы на ночь, с облегчением надевали пижамы и отправлялись спать.
Под конец первого дня, безвылазно проведенного мной в отчем доме, мы с мамой сделали то же самое — чмокнули друг друга в щеку, как девочки, которыми обе были когда-то, и молча разошлись по своим комнатам.
Утро, когда мой отец вышел из дома и не вернулся, до сих пор не закончилось: часы внутри меня так и не пробили полдень. За обедом я проводила воображаемую черту, отделявшую жизнь среди других, за школьными партами, от жизни дома, и эта черта принимала вид мясной запеканки и зеленого салата, йогурта и моцареллы. Стоило мне убрать со стола, направление времени менялось, после полудня комнаты превращались в лес, коридор в каньон, а отцовский кабинет в океан. Я причаливала за стол, открывала греческий словарь, забиралась с ногами на кресло и начинала переводить.
Безмолвие дома нарушала только моя подруга Сара. Она прибегала ко мне делать уроки, когда ее соседка уходила по делам и оставляла без присмотра старую собаку, которая тотчас принималась выть от тоски. Ее вой, рассказывала Сара, проникал сквозь стены и врезался прямо в мозг, тогда как у нас царила тишина. Подруга устраивалась подле меня, и мы допоздна корпели над домашними заданиями. Меня поражало, что кто-то находит прибежище в этом доме, считает его гостеприимным и даже приветливым, хотя мой отец однажды назвал его худшим местом, где ему доводилось жить, и я разделяла это мнение. «Дурацкая планировка, скопище разношерстной мебели, стены с отслаивающейся по углам голубой краской — что здесь хорошего?» — недоумевала я. В конце длинного коридора стоял корпус для часов с маятником — поместить в него часовой механизм ни у кого вечно не было времени. Спустя год после исчезновения отца мать подошла к пустому корпусу и сказала: «Зря откладывали, давно бы поставили в него часы». Из всех фраз, прозвучавших из маминых уст, эта была ближе всего к тому, как если бы она произнесла вслух имя отца. Я позавидовала ее отваге, потому что у самой язык просто не повернулся бы сказать подобное. В комнате, которая когда-то служила отцу кабинетом, по сей день стояла несуразная конструкция а-ля книжный стеллаж — четыре фанерные доски, уложенные на красные кирпичи. Полки этого стеллажа были забиты словарями и учебниками по иностранным языкам — ивриту, немецкому, французскому… По-моему, отец пытался изучать все языки мира. Кое-как разобравшись с алфавитом и правилами чтения, он в одночасье переключался на информатику, медицину, минералогию — словом, на любые науки, погружение в которые примиряло его с жизнью в одном доме с мамой и со мной. Размышления Сенеки, безумие Эразма, южноамериканская поэзия, эссе о советской политике, иллюстрированная книга о мессинском землетрясении 1908 года… После увольнения отец читал все подряд, лишь бы заглушить невыносимость своего несчастья. Но пришел день, когда это перестало ему помогать.
Отсутствие отца представлялось мне неким наблюдателем, который не спускал глаз с меня и Сары в те часы, когда мы делали уроки в кабинете. Ощущая на себе этот незримый взгляд, мы избегали и пальцем прикасаться к отцовским книгам. Нашу с Сарой дружбу можно назвать уникальной, потому что кроме нее мне ни разу не удалось ни с кем подружиться. Я не рассказывала Саре о кошмарах, преследовавших меня по ночам, мои глаза всегда оставались сухими. Мне казалось, исчезновение отца лежит на моей совести, ведь он не пожелал дальше жить со мной. Вся забота об отце была на мне — следовательно, это я не сумела за ним приглядеть. Мать, убегая по утрам на работу («Мы не можем позволить себе потерять еще и мою зарплату», — повторяла она), говорила мне на прощание одну и ту же фразу: «Я спокойна, ведь рядом с папой будешь ты». Выходит, я была тюремщицей отца и виновницей его побега.