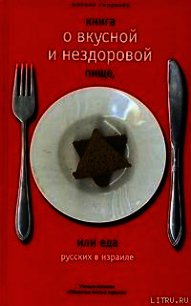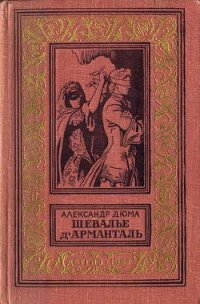Антибард: московский роман - О'Шеннон Александр (книги онлайн бесплатно .txt) 📗
Колбаски никакой нету.
Беру огурец и с сомнением начинаю жевать ватную обезвоженную плоть. Бабий корм.
И тут на кухню выходит Крюгер.
Он одет в то же, в чем спал. Растрепанные каштановые волосы с засевшим пером, подстриженные то ли под сэссон, то ли под горшок, как у русских поэтесс. Еще не видел ни одного поэта с нормальной стрижкой. У всех поэтов, начиная с Александра Сергеевича, были совершенно безобразные прически. Глаза голубого цвета слегка опухли.
Да, вчера явно перебрали.
Я, кстати, сегодня еще не смотрелся в зеркало. Да и не стоит, наверное.
Утиный нос острослова и бабника. Лет сорок, но не скажешь. Действительно похож на немца, хотя в этом смысле сам черт ногу сломит. У меня, например, есть один знакомый, Миша Коган, сын известного советского художника, сделавшего себе имя и квартиру с мастерской в центре портретами ударников коммунистического труда, так он просто идеальный голливудский викинг — блондин с серыми глазами и носом-картошкой. Даже борода у него желто-рыжая, как у какого-нибудь конунга Харольда Железные Зубы. Но — Коган!.. Крюгер — еще куда ни шло. А с другой стороны, на Нюрнбергском процессе судили одного эсэсовского отморозка, чуть ли не штандартенфюрера, у него фамилия вообще была Абрамчик. Ну да наплевать. Дожевываю ужасный огурец.
— Привет, — бодро говорит Крюгер, — Верунчик в ванной?
Я киваю. Крюгер понимающе кивает мне. Да, именно так и должно быть.
— Ну, как вы вчера?
Тон игривый, но чувствуется некая подозрительность. Настороженность. Все-таки отбил самку из прайда. Потеря вроде бы невелика — одной меньше, другой больше, и все не Мэрилин Монро, — но вдруг именно эта была какой-то сверхъестественной в постели, вдруг упустил что-то охуительное? «В тихом омуте…» и прочее. Я пожимаю плечами:
— Да вроде нормально.
Действительно, хуй его знает. Я ведь ничего не помню, к тому же мои восторги омрачили бы нашу встречу. Крюгер успокаивается.
— Слушай, — говорю я, — а мы где вообще находимся?
— Это, — самодовольно отвечает Крюгер, — квартира моей бывшей тещи. Она мне ее подарила.
— Да нет, я имею в виду территориально. Какой район?
— А! Тут на трамвае до «Тушинской» ехать минут пятнадцать.
«Тушинская»! Я так и знал. Отсюда до меня пилить и пилить. Нет, возьму тачку.
— Я тут чайник вскипятил, не хочешь?
— Чаю? — Крюгер надолго задумывается.
Я завариваю чай Вере и доливаю кипяток в свою кружку. Чай получается жиденький, желтоватый. Ну да черт с ним.
— С утра, — говорю я, — оттягивает.
— Я вот думаю, может, нам водочки выпить?
— В холодильнике вроде нету…
— В комнате должна быть, мы вчера там заканчивали.
Вот, блядь, а я и не помню… Крюгер уходит на поиски.
Я вообще-то не опохмеляюсь, чтобы не стать алкоголиком, и водку стараюсь не пить, потому что у меня от нее сносит крышу. Она заставляет мое сознание клубящимся туманом растекаться по ухабистой горизонтали русского поля, как в губку впитываясь в жирный перегной жизни с копошащейся в нем фауной. Водка открывает мне глаза, и я вижу, как вся эта белковая масса ползет, извивается, шевелит ножками и усиками, питается и оплодотворяется между хитиновыми останками своих предшественников, роет ходы и углубляет норы, ибо не согреться им под низким холодным небом космоса, который когда-то одним пузырящимся плевком заставил их жить.
И я вижу себя, белесого червя, в корчах веры, надежды и любви упорно прокладывающего путь куда-нибудь вперед, в рамках отведенного мне жизненного пространства, строго ограниченного временем, к точке X, где я последний раз уткнусь наморщенным лбом в стену и стану еще одной питательной молекулой культурного слоя.
Картины эти отравляют мне бесшабашность застолья, и тогда пристальным прищуром окидываю я свисающие над посудой лица своих собеседников, пытаясь понять — ведомо ли им то, что ведомо мне, или им ведомо что-то неведомое мне? Вот они, вокруг меня — глаза мудрецов, поблекшие от смирения; беспечальные глаза похуистов; вытаращенные, со стальным блеском голодной сумасшедшинки глаза жизнелюбов над снующими от вечной жажды славы, денег и женщин поршнями кадыков. А наутро не хочется вспоминать.
Такова водка…
Коньяк же, наоборот, веселит душу, острит язык, придает пружинистость мыслям. Коньячное похмелье мягкосердечно, с возрастным оттенком светлой грусти, когда тело сохраняет покойную плавность движений, а душа просит почитать И.С. Тургенева перед окошком, посеребренным тюкающим дождем.
Из коридора доносится негромкая песня возвращающегося Крюгера. Кажется, Визбор. Крюгер вносит водку и сложенные стопочкой рюмки.
— Полбутылки осталось.
«Гжелка». Ага, это, наверное, я вчера покупал. Наверное, надо было догнаться. Начали пить, а потом сломались. Как всегда. Я сижу и думаю: а может, выпить? От одного похмельного дня алкоголиком не станешь, от полбутылки не окосеешь, к тому же все равно придется пить перед концертом. Вечером, конечно, я буду пить коньяк, но он хорошо ложится на водку. Да и концерт-то так себе, сборный, спеть нужно будет песен пять, это можно и в сиську пьяным сделать, так и так заплатят копейки. Я трогаю бутылку.
— Теплая.
— Так откуда же ей холодной быть, — изумляется Крюгер, — в холодильник-то ее никто не поставил. Можно, конечно, под холодную воду сунуть…
— Если бы с закуской… Что-то мне есть хочется…
Крюгер оживляется.
— Пельмени будешь? Должны остаться.
Он открывает заморозку. Так вот где хранятся сокровища! Крюгер достает хрустящий, осыпающийся льдинками пакет. Я пельмени никогда не ем, терпеть их не могу, у меня от них случается понос, но сейчас я глотаю вязкую слюну. Я вспоминаю, что вчера практически ничего не ел, только днем зажарил яичницу и попил чайку. А потом поехал на концерт и ничего, кроме коньяка, в рот не брал. Я мог заказать что-нибудь, но мне жалко было денег. И у Крюгера ночью мы ничего не ели.
— Пельмени — это хорошо, — говорю я, вздрагивая от голодной судороги в желудке.
— Закинем всю пачку, — озабоченно бормочет Крюгер. Он открывает дверцы стола и с грохотом выволакивает оттуда кастрюлю. — А может, зажарим? — спрашивает он. — Ты жареные пельмени ел?
— Ел. Только их, кажется, обычно жарят, когда они уже вареные. Холодные они вряд ли прожарятся.
— А, да… Точно. У меня их теща жарит. Это ее фирменное блюдо. Она, когда приезжает ко мне, всегда привозит пельмени.
— Какая у тебя славная теща. Любит она тебя…
— Да, — Крюгер сдвигает в раковине немытую посуду и подставляет кастрюлю под плюющуюся струю воды, — она меня больше дочери любит. Когда она сбежала к мужику, теща мне эту квартиру подарила. Жену, говорят, мужик теперь пиздит по-черному. С фингалами ходит. Дура ненормальная…
Как водится, как водится… У меня две бывших жены, тоже, наверное, дуры. Одна от меня сбежала, а от второй — я. Даже не знаю, пиздит их сейчас кто-нибудь или нет, потому что с тещами, слава Богу, не дружу, даже лиц их не помню. Помню только, что одна была беззубая, а другая — одутловатая. Тяжелые воспоминания, не приведи Господь где-нибудь с ними повстречаться. Посмотрят, как на врага рода человеческого. Крюгеру в этом смысле повезло. А может, и нет. Но все-таки квартира… С бывшей тещей, приезжающей жарить пельмени. Есть, однако, в этом что-то странное. Совсем сюрная, наверное, у тещи дочка, если она так полюбила зятя.
— Понятно, — говорю я, — я тоже два раза женат был.
— Да-а-а? — уважительно тянет Крюгер, ставя кастрюлю на стол. — А чего разбежались?
— Я уж и не помню, — искренне отвечаю я, — квартирный вопрос, денежный вопрос… Все одна хуйня. Женился по молодости, от скуки. Опять же тещи… Не повезло мне с тещами.
Крюгер роется на полках, стучит банками, что-то ищет. Я сижу, вспоминая бывших жен. Конечно, не дуры они были, просто заебала семейная жизнь. Устали от быта. Помню, какое облегчение чувствовал, когда разводился. Воля! Вторая, младше меня на пять лет, всплакнула, просила остаться, даже обещала научиться готовить. Я сам умилился тогда чуть ли не до слез, но все-таки ушел. И правильно сделал — она через полгода вышла замуж за банкира. Сосватала одутловатая теща. Могу собой гордиться — дал женщине свободу. Сейчас, наверное, сидит где-нибудь на Антилах у открытого бассейна и листает «Вог».