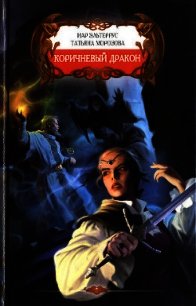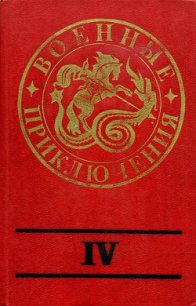Красно-коричневый - Проханов Александр Андреевич (книги без сокращений TXT) 📗
– Я просил на последнем заседании ваших неистовых друзей попридержать свои аргументы, – обратился спикер к Константинову скрипучим недовольным голосом, столь хорошо известным по телепередачам. – Я понимаю, все они яркие ораторы, неординарные люди, не любят Хасбулатова. Но ведь, по-моему, была достигнута договоренность, я вам открыл мои карты и был вправе рассчитывать на большую выдержку.
Очистив трубку, он схватил желтоватыми пальцами рассыпчатую щепоть табака, наполнявшую деревянный ларец. Натолкал табак в обугленное жерло трубки, стал утрамбовывать серебряной лопаточкой умело и с наслаждением, посматривая на другие обугленные трубки, разных размеров и форм, разложенные по столу.
– Я уже сделал им замечание, Руслан Имранович, – оправдывался Константинов. – Но, согласитесь, «Фронт национального спасения» должен себя демонстрировать. Мы держим напряжении «демороссов». Ведь и это входило в наш уговор!
– Не следует перегибать палку. Верховный Совет – это не конгресс «Фронта», – также скрипуче и недовольно сказал Хасбулатов. Зажег трубку, всосал сквозь мундштук горячий дым, выпустил из угла рта душистую голубую струю.
Пока они пререкались, недовольные друг другом, но и зависимые один от другого, Хлопьянов наблюдал всемогущего спикера, старался упорядочить свои первые о нем впечатления.
Курящий трубку Хасбулатов, манипулирующий маленькими аккуратными пальцами, в которых появлялись то золотистая щепоть табака, то серебряная лопатка, то коричневый, с медными инкрустациями чубук, явно позировал. Этой трубкой, набором инструментов, самим неторопливым культом курения он должен был отличаться от остальных, выделяться из некурящей или курящей стандартные сигареты массы. И в его манерах и жестах, в его попыхиваниях и посасываниях, в его маленьком кулаке, сжимавшем дымящий, с малиновым угольком чубук, было что-то «сталинское», но не натуральное, а подражательное, ненастоящее, театральное. И это разочаровывало.
Но отталкивало и смущало также другое. Этот человек, облеченный вершинной властью, к которому явился Хлопьянов, неся свою грозную весть, надеясь, что эта весть поразит его, заставит воспользоваться своей верховной властью, дабы избежать страшной, нависшей над всеми беды, – этот маленький темнолицый чеченец был тем человеком, кто способствовал разрушению Родины. Олицетворял те лукавые своевольные силы, что погубили страну. Хлопьянов, в своей безысходности, должен был искать поддержку у человека, которого еще недавно ненавидел, как и Ельцина, приписывал ему главную вину за развал СССР. Поэтому сходство Хасбулатова со Сталиным, воспроизводимые им манеры и жесты генералиссимуса казались карикатурой.
Однако нечто, до конца неясное, располагало к нему Хлопьянова. Внушало доверие и сочувствие, интерес и сострадание. Безымянные, беззвучные потоки беды, заливавшие кабинет сквозь хрустальные окна, окружали Хасбулатова. Пронизывали его легкий костюм, белую рубаху, золотую запонку. Рассекали насквозь его маленькое ладное тело. Хлопьянову казалось, – в груди Хасбулатова, сквозь которую проникали лучи, выжигалась пустота, бестелесная, лишенная материи скважина. Там, где должно было биться сердце, дышать наполненное дымом легкое, бежать по артерии живая кровь, там все было выжжено. Оставалась одна оболочка, тонкая, касавшаяся костюма кожа, сквозь которую летели испепеляющие плоть лучи.
Это делало Хасбулатова близким ему, Хлопьянову, доступным, понятным, свидетельствовало о его тайном несчастье.
– Руслан Имранович, я не стал бы вас беспокоить только для того, чтобы принести извинения за некорректные выступления моих товарищей, – произнес Константинов, дождавшись момента, когда трубка спикера была раскурена, и малиновый уголь ровно разгорался в чубуке при каждом вздохе курильщика. – Коллега, которого я к вам привел, заслуживает полного доверия. Сведения, которыми он располагает, настолько тревожны, настолько подтверждают ваши и наши опасения, что вы их должны выслушать немедленно и, быть может, обнародовать на ближайшем заседании Верховного Совета. Назначить комиссию по расследованию… Прошу вас! – он повернулся к Хлопьянову. – Так же подробно, как и мне!
И Хлопьянов второй раз, теперь уже Хасбулатову, поведал о своем посещении секретной базы, о тренировках по разгону уличных демонстраций, о штурме Дома Советов. О своих переживаниях по поводу попираемого красного флага. О флагах перед макетом, тех же расцветок и в том же количестве, что и перед Домом Советов. О поведении Ельцина на смотровой трибуне. О том, как он вырвал у омоновца дубину и размахивал ею, яростный, бурный, похожий на примата.
Хасбулатов в начале рассказа продолжал курить, стараясь сохранить невозмутимость. Но в середине повествования замер, отвел трубку в сторону. После последнего эпизода с дубиной не выдержал. Лицо его передернулось гримасой отвращения, и он произнес:
– Животное!.. Алкоголик!.. – жадно засосал мундштук, окутался смоляной табачной синью.
– Мы должны немедленно реагировать! – возбужденно говорил Константинов. – Послать депутатов прямо туда, в секретную зону! Прихватить корреспондентов с телекамерами!.. Пригласить на Верховный Совет силовых министров! Пусть скажут, как намерены действовать в случае нарушения конституции!
– Он на это не пойдет, не решится! – Хасбулатов качал головой, словно отгонял наваждение. Отгонял его, как облако синего дыма. – Это будет его крах! Регионы за ним не пойдут!.. Парламенты мира не допустят!.. Американцы не дозволят! Он просто играет! Здесь важно не испугаться, не поддаться на провокацию! Кто первый сорвется, тот и проиграл! – Он успокаивался, обретал равновесие. Вновь отыскивал точку опоры, позволявшую ему оставаться спокойным, величественным, знающим хитросплетения государственных нитей, управляющим политической интригой. – А вы не допускаете, что вам специально показали этот спектакль? Специально послали к нам, чтобы качнуть ситуацию?
Дверь в кабинет растворилась, и шумно, пылко, раздувая полы летнего пиджака, развевая малиновый шелковый галстук, вошел человек. Полуседой, с пышными усами, твердо переставлял по ковру начищенные, глянцевитые штиблеты. Хлопьянов узнал Руцкого, вице-президента, совершившего за эти годы головокружительную, непостижимую карьеру. Еще недавно, афганский летчик, в стратосферном костюме, в белом шишаке гермошлема, шел вместе с группой пилотов к штурмовикам. Горы Баграма пылились и розовели сквозь жар. Машины одна за другой на дрожащем пламени уносились к хребтам, скрывались в белизне ледников. Где-то в маленькой блестящей точке исчезающего самолета был Руцкой. Наносил штурмовые удары по караванам душманов, по горным пещерам и складам, не ведая, по какой траектории несется его судьба.
Теперь Руцкой, топорща усы, на ходу начиная браниться, приближался к сидящим.
– Эти коржаковские суки поставили под окнами дома «наружку». Мало, что эти гады слушают мои телефоны, они еще квартиру облучают из какой-то херни! башка болит! Попугай это излучение чувствует и орет, матерится в клетке! – Он приблизился и небрежно со всеми поздоровался. Хлопьянов отметил слишком красный, от нездорового возбуждения, цвет его лица. – Сейчас сюда ехал, эти мордовороты сели на хвост! Я говорю водителю: «Давай резко тормознем, пусть врежутся, а мы разберемся!» – Он нервно и зло хохотнул, и в этих словах о преследователях в нем на мгновение проснулся летчик. – Руслан Имранович, срочно поговорить!
Хасбулатов встал. Они отошли в дальний угол комнаты и неслышно переговаривались. Хлопьянов издали смотрел на них и видел, как потоки лучистой энергии пронзают насквозь Хасбулатова, выжигают его сердцевину, но, наталкиваясь на Руцкого, отражаются, огибают его. Словно Руцкой был магнитом, искривлявшим силовые поля. Вокруг его головы, плеч и груди виднелось едва различимое свечение, как солнечная корона.
Так чувствовал Хлопьянов Руцкого, не глазами, а все той же таинственной, чуткой мембраной, откликавшейся на давление лучей.
Он не любил Руцкого. Не простил ему предательства в августе, когда, азартный и бурный, тот выступал по телевизору, рассказывая, как с автоматом арестовывал в Форосе стариков-неудачников, последнее правительство гибнущего государства. Не сочувствовал ему все последние месяцы, когда вице-президент, навлекший на себя опалу, выступил против кремлевского монстра, которого сам же и возвел на престол. Но Руцкой был живой, страстный, горячий наощупь. Был воин, игрок. Его игра и азарт заражали. Его моментальная искренность вызывала отклик. И не веря ему, все ожидая за искренностью вероломство, не прощая ему прегрешений, Хлопьянов чувствовал свое с ним сходство. В их памяти зеленели изразцами одни и те же мечети, чадили в ущельях одни и те же сожженные колонны.