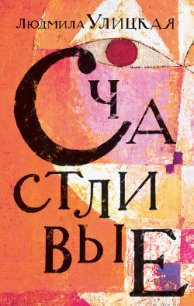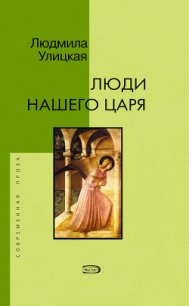Казус Кукоцкого - Улицкая Людмила Евгеньевна (книги читать бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Павел Алексеевич полагал, что Таня переживает запоздалый юношеский кризис. Вероятно, он был ближе всех к истине. Пытаясь проанализировать механизм этого слома, он не мог допустить, тем не менее, что причиной его был совершенно, с его точки зрения, незначительный эпизод с наливкой тушью мертвого человеческого плода, о котором Таня ему с такой горячностью рассказала. Ему казалось, что истинная причина иная, лежит глубже. К тому же его смутил и телефонный звонок профессора Гансовского, который сначала долго распинался по поводу исключительной научной репутации Павла Алексеевича, потом дал понять, с помощью обобщающего местоимения «мы», что и себя он причисляет к немногим добросовестным исследователям, и, под конец, дав Тане отличную характеристику, предложил ей забрать заявление об уходе, отдохнуть как следует, даже два месяца, а в сентябре, оставив неумные капризы, приняться за работу в качестве его личного, а не Марлены Сергеевны, лаборанта. Просил Павла Алексеевича передать Тане, что ждет ее у себя на приеме в ближайший вторник, после двенадцати...
Повесив трубку и поразмышляв над этим разговором, Павел Алексеевич пришел к мысли, что у Тани возник какой-то производственный конфликт с Марленой Сергеевной, которую Таня слишком уж поспешно, с первого дня работы, назначила себе образцом для подражания.
Изловив не без некоторых усилий Таню – теперь расписание ее жизни не совпадало с общесемейным: когда отец возвращался с работы, дома ее уже не было, а заявлялась под утро и спала до полудня, – Павел Алексеевич передал ей содержание телефонного разговора с Гансовским. Таня только плечом дернула:
– А чего ходить? Я туда все равно не вернусь.
– Танюша, это, безусловно, твое право. Но не забывай, что я просил за тебя, сам привел тебя в лабораторию. Не ставь меня в неловкое положение. В конце концов, надо соблюдать приличия, принятые между людьми, – сказал он более чем миролюбиво.
Таня вскинулась:
– Как же я все ваши приличия ненавижу!
Он притянул ее голову, погладил:
– Ты что, малыш, хочешь мир изменить? Это уже было...
– Папа, ты ничего не понимаешь! – выкрикнула она ему в грудь.
И убежала, оставив Павла Алексеевича в огорчении: девочке двадцать лет, а поведение подростковое...
2
Позднее медлительное лето завершилось сильной августовской жарой. Таня второй месяц вела странную ночную жизнь, все более в нее втягиваясь. География одиноких прогулок расширялась. Она исходила старую переулочную Москву, особенно полюбила Замоскворечье с его приземистыми купеческими особняками, палисадниками и неожиданно возникающей чередой деревьев-стариков, приусадебных стражей давно снесенных дворянских гнезд. Часто гуляла возле Патриарших прудов, исследуя головоломную путаницу проходных дворов. Она любила подходить к Трехпрудному переулку, к Волоцким домам, которые когда-то строил ее прадед, со стороны шехтелевского дома, огибать его слева и заканчивать свой поход на прудах, под утро, задремав на любимой лавочке со стороны Большого Патриаршего переулка.
Ночные люди, с которыми она иногда знакомилась, совершенно не походили на дневных, обычных людей, которыми была полна улица в светлое время. Печально трезвеющие пьяницы, неудачливые проститутки, убежавший из дому двенадцатилетний мальчик, бездомные парочки, обживающие в бесприютной любви парадные с широкими подоконниками и незапертые чердаки... Однажды, в верхнем пролете лестницы, ведущей к запертому выходу на крышу, она наткнулась на спящего человека и ужаснулась – не мертвый ли...
Еще ночные люди слоились по часам: до часу встречалось много приличных парочек, возвращающихся домой. Собственно, это были не ночные люди, а просто слегка застрявшие дневные. После часу они сменялись одиночками, по большей части пьяными. Они были неопасны, хотя иногда приставали. Что-нибудь просили – сигарету, спички, двушку для телефонного автомата, – или предлагали – выпивку, любовь... С этими пьяными одиночками она иногда разговаривала... Самые опасные люди водились, как показалось Тане, от трех до половины пятого. Во всяком случае, самые неприятные встречи происходили именно в это время.
Она выплюнула, как сливовую косточку, все свое прежнее знание, ученическое и книжное. Ее интересовал теперь иной опыт, который давал преимущества неожиданного маневра, ловкого движения: она радовалась, обнаружив новый проходной двор между двумя глухими переулками, двустороннее парадное, открытое и с фасада, и с черного хода. Она знала последнюю в Москве, забытую водопроводным начальством и все еще работающую колонку в районе бывшей Божедомки, обнаружила квартиру в полуподвале, где собирались по ночам очень преступного вида люди – воровской притон?
Ночные километры вымощены были и размышлениями: еще недавно жизнь представлялась ей как ровная дорога в гору, постепенное восхождение, целью которого был научный подвиг, соединенный воедино с заслуженным успехом и даже, может быть, славой. А теперь она видела вместо героической картинки ловушку, и наука оказалась идолом точно таким же, как убогий навязываемый социализм, который последние годы все чаще называли по радио «социализьмом» в угоду малограмотному Хрущеву, двух слов свести не умеющему... Когда она была маленькой, естественным было деление на «мир взрослых» и «мир детей», «мир добрых» и «мир злых». Теперь ей открылось иное измерение – «мир послушных» и «мир непослушных». И речь шла не о детях, а о взрослых, умных, просвещенных, талантливых... Таня решительно и радостно перешла во вторую категорию. Пожалуй, неясно было только с отцом – он не укладывался ни в какую категорию. Вроде бы он был общественно-полезным, то есть послушным, однако всегда поступал по-своему, навязать ему чужое мнение, заставить подчиниться было невозможно...
Однажды Таня нашла на садовой скамейке в тупиковом дворе Средне-Кисловского переулка строгого старика, сидящего очень прямо, не касаясь развалистой спинки, опирающегося деревянными руками на деревянную, с могучим полированным набалдашником, барскую трость. Таня села на ту же скамью с краю. Он, не поворачивая к ней большой головы, косо освещенной слабым фонарем, сказал глухим голосом:
– Таня, мне кажется, пора подавать обед.
– Откуда вы меня знаете? – изумилась она, в первую минуту не угадав случайного совпадения.
– Я повторяю, время обедать.
– А где вы живете? – спросила Таня.
Старик как будто немного смутился, забеспокоился, потом ответил не совсем уверенно:
– Я живу... здесь.
– Где – здесь? – переспросила Таня, уже догадавшись, что старик обеспамятел.
– Город Гадяч Полтавской губернии... – с достоинством ответил он.
– А как вас зовут?
– Пора подавать обед, – он заерзал на скамейке, пытаясь подняться из ее глубины и опираясь на палку. – Пора обедать.
Он осел, так и не сумев поднять своего довольно грузного тела.
Время шло к рассвету. Таня помогла ему выбраться из этого деревянного гамака и сказала:
– Пойдемте. Действительно, пора обедать. Таня ждет вас с обедом.
И она отвела его в отделение милиции, чтобы там помогли ему разыскать коварную Таню, которая вовремя не подала обед. Уже в милиции, сдавая величественного деда в руки мелкой власти, Таня заметила, что на палке было написано белой краской: Печатников пер., д.7, кв. 2. Лепко Александр Иванович.
– До свидания, Александр Иванович, – попрощалась Таня, жалея, что не заметила раньше сопроводительного письма, написанного на палке.
«Предпоследняя ступень свободы», – прежде такая мысль не пришла бы ей в голову.
Когда она вышла из милиции, уже рассветало. Ночные люди укрылись, а дневные еще не вылезли из своих нор. Настроение у Тани было прекрасным, и она решила, что, выспавшись, поедет в лабораторию к часу, когда лаборантки собираются в препараторской для общего чая, купит по дороге торт, каких-нибудь конфет, чтобы отметить таким образом свое освобождение...
С чаем получилось неудачно. Из шести лаборанток три были в отпуске, одна больна, а две оставшиеся были как раз наименее симпатичными – пожилая Тася Кухарикова и вороватая Галя Авдюшкина. Съели по два куска торта, остальное положили в холодильник. В лаборатории почти никого не было – кто в отпуске, кто на конференции, у кого библиотечный день. Марлена Сергеевна тоже была в отъезде.