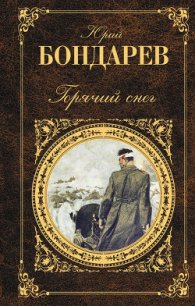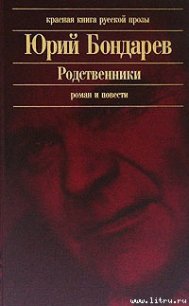Искушение - Бондарев Юрий Васильевич (читать полностью книгу без регистрации .TXT) 📗
Невероятный намек походил на безумие, однако неопровержимо было то, что Тарутина окружало чрезмерно много скрытых и явных недоброжелателей, напитанных ядом, неумолимых во вражде, жестоких в злой радости и ревности к его никому не подчиняющейся позиции в жизни. И была зависть, превосходящая, как это часто бывает, и любовь, и ненависть. Но дело было вовсе не в зависти. Этот безвольный его ученик, мальчик, в страхе и умственном помрачении предал его у костра и мог, конечно, не раз предавать в Москве…
– С шестнадцати лет мечтаю пролетарием быть. И посейчас мечтаю. Очень, можно сказать.
«Кто это говорит? Ах, да, да. Он подсел к нашему столу, сказав нелепую фразу: „С антеллигенцией можно? А то местов нет“.
И Дроздов вернулся в гул, крики, запахи и тесноту чайной, сразу же отчетливо увидел напротив себя оплывшее морщинистое лицо средних лет человека в рабочей куртке, который неумеренно посыпал края пивной кружки солью, вожделенно отхлебывал, утоляя, по-видимому, сжигающую его жажду. Он говорил между жадными глотками пива, сдвигавшими его кадык на изношенной, прорезанной складками шее:
– Пролетарием быть – это не хухры-мухры, а жизнь, мечта, можно сказать, и достижения…
– И вы можете свою мечту объяснить? Как это быть сейчас пролетарием? – поинтересовалась Валерия и взглянула на Дроздова с осторожной тревогой.
«Зачем я ее взял с собой? Вот она сидит здесь, среди пьяных работяг, не стесняющихся выражений, и уже нет в ней ничего московского. Геологиня с серыми глазами. Она умеет собой владеть. Молодчина милая».
– А как космонавты. Не дошло?
– Почему космонавты?
Морщинистый отпил пива, облизнул губы.
– А вот как, ежели не дошло. Они в такое-то время наблюдают, работают, в такое-то пищу принимают, в такое-то спят. Все у них, значит, по регламенту. Все у них ясно. Все у них казенное. Потому крепкое.
– А вы жизнь космонавтов знаете? – спросила Валерия серьезно. – Вы уверены, что космонавты именно так живут?
– Знаю не знаю – важности не имеет. А так у них должно быть. Все у них как у пролетариев.
– Так, да не так! Какая-то глупость! – неожиданно взорвался Улыбышев, до этого вяло ковырявший вилкой котлету, и обросшее личико его возмущенно взметнулось над тарелкой. – Вы думать самостоятельно не хотите, вот что! Мозгами своими пошевелить! Собственным мизинцем!..
– А для чего шевелить? Пусть другие стараются. У них для этого государственные головы дадены. А мизинцы у всех есть. Шевелим, когда команда есть. Не шуми, парень. Все одно пролетарием хочу. Мечта. Достижение жизни.
– Вы рабом хотите быть, роботом, – Улыбышев даже начал заикаться в негодовании. – Человеком кнопочного управления! Вот почему вы не хотите думать! Вот и здесь, на Чилиме, кедр вырубаете на сотнях тысяч гектаров, тайгу в мусор превращаете. Всех зверей истребили, браконьеры! Уже простой белки и глухарей нет. А сейчас без проекта начато строительство, которое всех вас, чилимских, прогонит с этих мест, а все тут затопит водохранилище, и ваш Чилим будет грязное, гнилое море, без рыбы, никому не нужное! А электроэнергия куда, вы думаете, пойдет? Не вам, не нам, а в Европу!..
«Да искренен ли Улыбышев? Растерян и разъярен. После унижения у Чепцова? Занятно…»
Морщинистый сузил запухшие глаза, потягивая пиво, затем поставил кружку на стол, с видимым удовольствием шумно выпустил ноздрями воздух.
– Все одно пролетарием я хочу. Так хорошо будет. Все казенное. Не твоя забота. Живи тихо, спокойно, хлеб жуй. А водохранилище – что ж? Море! Катера, теплоходы пойдут. На яхтах, газеты пишут, мы кататься будем. Зону отдыха в тайге откроем. На пляжах загорать, пивко попивать около водицы. Товары из центра завозить начнут, начальство обещает. А то жратвы нет, порток нет, как в берлоге амикан, лапу сосем… – И вдруг, встряхивая лихо локтями, морщинистый закричал разудалым голосом: – Что есть человеческая жизня – труд или отдых? Отдых. А зачем жить-то? Вкалывать? Мукота-а!
«Правда всегда кажется консервативной, скучной, – подумал Дроздов, не слушая, бессильно сожалея о бесполезном разговоре с Чепцовым. – А ложь всегда льстива, всегда умна и прогрессивна. Она прельстительная красавица. Она околдовывает… Она больше похожа на правду, чем сама правда…»
Что ж, Тарутин не был наделен терпеливой покорностью, какой обладало великое множество его коллег. Он поехал сюда, загодя готовый пройти и изучить Чилим до конца в своей убежденности, и лишь теперь, после его гибели, Дроздов особенно чувствовал состояние Николая в том ночном споре в его квартире, когда он сказал о единственном выходе – о необходимости заговора против преступной силы монополий, уничтожающих землю, воду и саму жизнь. И почему-то стояла перед глазами кричащая, хохочущая толпа, воспламеняемая академиком Козиным на вечере у Чернышева, где в последний раз Николай отдавал «старые долги» коллегам, и почему-то вспоминался незнакомо веселый взгляд его во время последнего разговора на бульваре перед отъездом, когда он совершил непростительную ошибку, взяв с собой в командировку своего ненадежного ученика.
– Вы москвичи, что ль? Из столицы прибыли? Уезжайте отседова, пока целы! – послышался из сгущенного говора чайной жиденький голос морщинистого, и Дроздов увидел водянистый взгляд исподлобья. – Это не ваш ли алкаш в костре сгорел навроде шашлыка? Дал стружку москвич! Ловка ач!..
– Пойдемте скорее отсюда! Я сейчас расплачусь, – раздался вскрик Улыбышева, и он с мучительной горячностью принялся рыться в карманах, доставая деньги, мятые трешки. – Этой клевете… этой гадости нет предела! Я не могу слушать! Я не хочу… Кто-то специально пустил слух, а люди верят, как дураки! Вы глупость говорите! – взвизгнул Улыбышев. – Откуда вы знаете? Что вы врете? Вы сами… вы алкаш, как видно!
– Это я-то вру? И это я алкаш? Я дурак? Ах, сволочь московская!..
Морщинистый жадно высосал остаток пива, кадык задвигался челноком посреди морщин на его горле, напоминавшем растрескавшуюся землю, а по усохшему бескровному лицу прошла судорога злобы.
– Ты что это лаешься, антеллигент собачий? – Он стукнул пустой кружкой о стол и, не выпуская кружку из жилистой руки, встал с яростной обрадованностью. – Ах ты блямба! Думаешь, ежели ты москвич дерьмовый, так у тебя право есть орать на рабочего человека? – угрожающе возвысил он голос и оглянулся в призывном бешенстве на ближние столики, за которыми шумели посетители чайной. – Гляди, ребята! – крикнул он. – Столичные к нам приехали и права качают, дураками, алкашами нас обзывают, вроде как тот, который спьяну в костер полез! Инспекция, видать! Инспектировать нас будет. От суки! Дармоеды! Оскорбляют рабочий народ! Издеваются!
За ближними столиками разом примолкли, старуха перестала жевать беззубым ртом, парни в телогрейках, похожие короткой стрижкой на недавних уголовников, прекратили буйный спор, глянули вопрошающе, один из них, круглоголовый, спросил с издевкой:
– Чего голосишь, сиротка, будто задницу бульдозером переехало? Кто тебя забидел? Гостей, гад, не уважаешь? Не видишь, рыло: среди гостей – классная женщина? – И круглоголовый, подчеркивая напускную вежливость, поблестел в сторону Валерии передним стальным зубом, после чего равнодушно посоветовал: – Извинись за грубость, бульдозер, перед женщиной и гостями, покажи, что не с медведями целуешься!
– Перед кем это извиняться! – закричал морщинистый, озлобленно стуча кружкой по столу. – Приехали из Москвы, а мы на задние лапки, что ли? Перед бабой извиняться? Это по какой причине? Королева, что ль? Или из артистов? Ха-ха, скаж-жи! Я на таких с прибором кладу! И фамилию не спрашиваю! Ишь, антеллигенты культурные, кровушку нашу сосете! Ха-а…
Он прервал задушенный смешок, продолжая громко постукивать пустой кружкой по столу, а плечи его конвульсивно ломало, корежило, как в припадочном танце.
«Больной он или играет припадочного?»
– И что дальше? – сказал Дроздов с веселостью в голосе, в то же время чувствуя душную волну в груди, горячую и неблагоразумно опасную, что бывало иногда с ним в минуты неосознанные. И он, не вставая, правой рукой охватил пляшущего плечами человека за жилистую руку, стискивающую кружку, с резкой силой дернул ее книзу, рывком усадил на стул, проговорил, отчетливо расставляя слова: