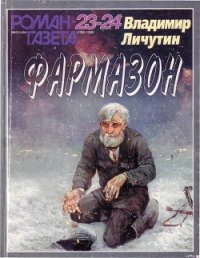Миледи Ротман - Личутин Владимир Владимирович (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные .txt) 📗
– А чтой так? – простодушно, без розмыслу спросила Ефросинья, но тут же осеклась. – Тьфу, срамной... Ну и срамной ты, Яков Лукич. У тебя и мысли все срамные, потому что не крестивый...
Миледи так и сидела в прихожей, угревшись, то уходя в памороку, то неожиданно выныривая из нее, чтобы перехватить воздуху. Кровь в ноге перестала сочиться, знать, засохла, заскорбела в печенки, и боль в теле унялась. Женщину потиху укутывало жаром, как в меховую поддевку, и от душного сухого тепла даже потрескивали кончики волос, словно бы напитанные электричеством. Так бывает, когда чистую промытую голову продирают гребнем. Казалось, что волосы приотлетели к потолку и там плавали, как у утопленницы в речном бучиле. И потешная перебранка доносилась в коридор не от живых людей, но от невидимых домовых насельщиков иль от тех бабочек-крапивниц, вдруг очнувшихся между рам от зимней спячки и сейчас дремотно шелестящих меж бумажных цветков, уложенных на пожелтевшую вату Ефросиньей еще по осени.
– Кому как заладится, – дундела Ефросинья. – Тоську-то Матрешкину замуж выдавали, ее приданое из деревни в Слободу везли на лошади, так три раза кобыла распрягалась и убегала. Все так и говорили, мол, не падет Тоське счастья. Так и вышло: году не жили – разбежались... И у Милки-то на свадьбе что затеяли. Какую гиль. Чуть ли не на ножах задралися, бабу стали делить. Это на свадьбе-то. Хорошо, не за ружья взялись. Яврей-то наш выше всех себя числит. Встал зятелко на гору, да и поплявывает: вот, де, вам. Эх, Милка, горюшица моя. Не дала ума мамка, не даст и лямка. Простодыра, сидела бы в девках. Куда с добром? И чего замуж пехалась? Да еще и не ко времени. Седатый бес на власть залез. Этот Ельцин, топором обтесанный, огоряй и пьяница. Тьфу... Как только таких огоряев выбирают? И где ум был? Я ему бы и овец пасти не доверила.
– А ты не страдай...
– Я не за себя страдаю, я за народ страдаю.
– И ничего ты, Фроська, не страдаешь. У человека трубы горят, ему край, он со слезами молит, а ты... Всё-всё! – Яков Лукич испуганно заградился от жены ладонями. От нее, вредной, станется: схватит от поганого ведра вехоть, да и вывозит по мордасам. Было время: гулевано да попито. Прежде он против шорстки гладил, кудря завивал, а нынче ему холку мнут. – Думаешь, мне доченьки родимой не жаль? Я, может, кажинный день плачу... Значит, что-то такое подвидится над нами, чего нам не стоит знать. Не человек судьбою правит, а судьба человеком. И не знашь, что с ним станет: у него и грамотешки много, и жена хороша, а не падет жизнь – и все, на средине пути скапутится. А другому вроде и счастья не дано, а все ковыляет до больших годов...
Может, застонала Миледи? иль занюнилась от неизбывной жалости к себе, даже в памороке страдая от напрасной жизни, но только родители оборвали перепалку, вспомнили про несчастную дочь свою, хоть и была она незабытна во всяких час, постоянно поминаема в суете дней.
Яков Лукич проковылял в прихожую.
– Доча, у тебя жар? – Старый прижал лицо дочери к впалому животу, приросшему к хребтине, стал гладить по голове, как бы перенимая ее боль на себя: девочка ты моя, крохотулечка ты моя... Однако ладонь оказалась тяжелая, зацепистая, как грабилка для ягод, шершавая, будто выделанная из елового корья. – Слышь, Фрося, с девкой-то худо. Огнем горит...
Миледи услышала отцов испуганный крик и совсем сомлела. Подумала еще, прощаясь с жизнью: слава Богу, в родных руках помираю.
Прохладные наволоки поначалу сымают боль, запеленывают Миледи в тугой младенческий куколь; и куда-то делось беспокойство, притихла грудная надсада, лишь в голове непрестанно куют кузнечики да паучки, вытягивая из ушей шершавую вату и мох, ткут неустанно паутинчатую паволоку, завивая сознание в бесконечные тончайшие кружева. Но постель скоро раскаляется, словно жаровня, становятся невыносимыми эти одеяла и простыни, похожие на смирительную рубашку, и чтобы снять ломоту в суставах, пошаришь ногами в углах постели, куда еще не хватило сухого жара, и так ублажат покровцы своим щекотным, как поцелуй, прикосновением, что невольно вздохнешь, выталкиваясь из омута навязчивых видений.
Глаз приоткроешь – и сквозь муть видишь неизменную картину то в сиреневых сумерках, то при зажженной лампе; родители в горенке сидят друг против друга за круглым столом, как на сторожевой вахте. Отец слюнявит пустой мундштук, катает его в губах, мать перебирает посудное полотенишко, изымает из него невидимые волокна и, накручивая их на палец, будто гадает имя суженого, с кем бы везти семейный воз. А ей-то, Ефросинье, чего кудесить, чего ворошить судьбу, коли с одним век свой прожила, и слава Богу, даже в мыслях не сблудила, хотя, бывало, и путались охочие, сбивали с пути, подслащивали измену сахарной коврижкой. Но и мужик-то достался не мед: порою и с топором бегивал, ганивал с печи на полати, потерявши от водки весь ум, и кулак подымал, неровен час – и сукастым поленом кидался вдогон, и веслом на реке поддавал по подушкам, если и в малом не подноровишь, и за юбкой чужой бегивал, такой неустанный кобель. Но вот все прошло, все прокатилося, и уже омыта в памятях розовым туманцем благодатная, так удачно испекшаяся жизнь. Но вот мил же, колченогий, и по сю пору, потому что до каждой жилки свой как бы изуделанный из ее, Фроськиного, ребра. Чуть что застонет в старике, тут же и в ней отдается в те же поры...
Делая страшные глаза, Ефросинья шепчет:
– Этот яврей Милку нашу бьет...
– Ну да?..
– Вот те крест. Глянуть страшно, как измордована. Он над нею измывается как хочет, – старуха не называет зятя по имени, словно бы боится обнаружить зло во плоти.
– Я ужо с Ваньком потолкую. Он у меня попляшет, фраер. Я с него сыму стружку, чтобы не загоржался. А не то шагом марш и ауфвидерзеен. Пусть в Израиле шнапс дринкен. Руля держать не можешь, так уступи другому.
Перезревшие щечки, покрытые склеротическим румянцем, дрожат от гнева, над жидкими волосенками, над седою прядью, перекинутой с одного уха на другое, мечутся голубые сполохи.
– Я тебя хоть раз пальцем задел? Не задеял. Баба такое вещество, ее уважать надо, а не в хомуте водить. Когда и дрыгнет, так что? и бить сразу? По мордасам?
Ефросинья опустила глаза к скатерти, ловчее стала наматывать ниточку на палец, причитывая беззвучно алфавит, но на «я» никак не выходило. Путались возле Володи, Гриши, Коли, а жить отчего-то пришлось со скорым на руку Яшей, который по младенчеству своему уже позабыл свои дикие выходки... А может, и прав он? может, и не бивал Фроську, не швырялся поленом, скалкой, ведром, батогом, веслом, навозною калькою, комом земли, но лишь учил, чтобы не сошла с тормозов по женской куриной глупости? И все примстилось ей, сердешной, и у нее, старой, тоже мыши гнезда в голове свили, и чего только не придумается на излете лет? И не гоже поминать того, в чем сама колебнулась.
– Успокойся! Разошелся тоже. Я тебя и не похуляю. Муж и жена – одна сатана. Не хватало еще, чтобы ты меня бил. Кто баб-то бил, те мужики со счету были, да. Плавали, а невод-то за камень. Кто виноват? Конечно, баба. Шесты-ти длинные, через всю лодку. Шестом огреет, баба плачет. Но молчи, не загрызайся, куда денешься.
...Два брата драчуны были, такие забияки, страх Господен. Один-то двух жен до смерти забил. Одну-то камнем по позвоночнику, а другую утюгом. Ну, взял третью, моложе себя. У нее нога засохла, так палка под коленку привязана. Так и култыхалась на палке всю жизнь и детей выносила. Не пяток ли? А может, и больше. Строга была, мужу спуску не давала, и он не задевал ее, боялся. Так надо с вашим братом поступать, чтобы трепетали, по одной половице ходили. Шучу-шучу... Помню, был у них сын Миха, громкоголосый, лентяй, а детей восьмеро. В избушке жили у Савина-озера. Про него пели: дождь дождит – Миха сено косит. Дождь перестал, Миха под ель встал.
– Один учил бабу свою. Привез на островок и оставил. Вода прибывает, а он в лодке на реке, якорь бросил. Покоришься, говорит, возьму. Вода и стапливает женщину. Не знаю, покорилась-нет... А еще было. Другой непокорную отвел в лес. Пошли в лес за грибами, а ее нет и нет. Сказывали, зарыл... – Яков Лукич говорит с намеком, де, я вот тебя, как куколку, всю жизнь на руках проносил, ты за мною, как за каменной стеною; де, вот какая неслыханная удача выпала тебе, старуха, так что нишкни и не подымай очей горе. – Гриша-то Клоп хвастался при народе. Я, говорит, первую-то жену лупил, так камень в наволочку суну и без синяков бью. Довел до могилы и снова женился. Но столь был злой человек, что поехали лес валить бригадой, а в Слободу вернулись без него. Говорят, пропал...