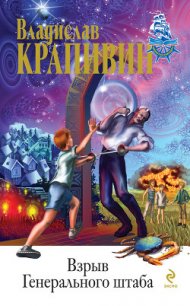В окопах Сталинграда - Некрасов Виктор Платонович (электронная книга .txt) 📗
Так проходит декабрь – тихий, снежный, с бесконечными вечерами и мохнатыми, точно плющом обросшими, белоснежными окнами.
Незаметно и Новый год подобрался. Новый год… Где я его встречал в последний раз? В Пичуге, что ли? В занесенной снегом Пичуге, на берегу Волги, в запасном батальоне. Я дежурил тогда по батальону. Дремал над телефоном. Караульный начальник позвонил и поздравил и счастья пожелал. Вот и все. Помню только, что был сильный мороз, и луна была в ореоле, и ноги мерзли…
А еще год назад где? В Киеве. У Люси. Народу совсем немного было. Человек пять или шесть. Я, Люся, Толька Янсон, Венька Любомирский, Лариса и Люба. Мы пили «абрау-дюрсо», ели хрусты и струдель с маком. Потом играли в шарады, и почему-то было страшно весело и смешно. А потом взяли у соседского мальчика санки и чуть не до самого утра катались с Нестеровской горки, пока у санок не отскочили полозья…
…Где они сейчас? На фронте, у немцев, в тылу? Все порвалось, точно ножом обрезал кто-то… Что там в Киеве сейчас? Живы ли мои старики? С чего они живут? И как живут? И можно ли это назвать жизнью? Продают понемногу вещи… Стоит где-нибудь мама на базаре с моим старым пальто или ботинками и ждет, когда какая-нибудь сволочь сунет ей пару червонцев. А ведь ей шестьдесят пять лет. Сорок пять из них лечила людей, а сейчас вот не знает, вероятно, на что дров купить или пшена. И самой нарубить дрова надо, и воды принести, на пятый этаж тащить ведра, и за бабушкой ухаживать. Она, правда, всегда молодцом была и до последнего времени сама на базар ходила, но восемьдесят семь лет все-таки восемьдесят семь. Две женщины, две старые женщины совсем одни… А кругом чужие, наглые лица… А может… Нет… Зачем им старики, зачем им женщины? Не может быть… Не должно быть…
А мы, черт, здесь, за тысячу километров, жрем булку с маслом и Седых раздобыл где-то самогонку и возится чего-то за столом, чего-то нарезает, сервирует…
– Чего загрустил, Керженцев, а?
Никодим Петрович подсаживается и обнимает за плечи.
– Да так, капитан, взгрустнулось что-то. О доме вспомнил.
– О доме… – Он качает головой и привычным жестом поглаживает лысину. О доме… А где ваш дом?
– В Киеве.
– Да-да-да, вы говорили. Мать, кажется, у вас там?
– Мать, бабушка. Старушки. Совсем одни.
– М-да, – он опять поглаживает лысину. – А у меня вот и дома даже нет. Все немцы уничтожили. И дом, и жену, и двух детей. Один сын только остался танкист, майор…
Впервые я вижу Никодима Петровича неулыбающимся.
– Как же они погибли?
– Да что рассказывать… Погибли, и все… Одна бомба, и… все. Ни жены, ни детей… никого.
Он порывисто встает и выходит в коридор.
Ларька лежит на койке и бренчит чего-то на мандолине. Бояджиев тоже лежит, насвистывает. Один Седых возится. Из Москвы передают эстрадный концерт. В печке уютно потрескивают дрова.
– Ну что, будем начинать, товарищ лейтенант?
Седых звенит стаканами и смотрит на меня вопросительно.
– Да, да… Будем начинать… Ларька, Бояджиев! Отставить концерт! Скоро двенадцать… Никодим Петрович… Товарищ капитан! Сбегай, Седых, он в коридоре, должно быть…
Потом мы пьем крепкий до обалдения самогон и закусываем разогретой свиной тушенкой и холодными, как лед, хрустящими солеными огурчиками.
– На передовой салют, вероятно, по фрицам дают… – мечтательно говорит Ларька, разливает самогон и прячет бутылочку под стол. – С Новым годом поздравляют…
– С Новым годом поздравляют… – как эхо повторяет Никодим Петрович и встает. Лицо его серьезно, глаза не смеются, и стакан в руке чуть-чуть дрожит. – Разрешите мне, друзья, тост провозгласить… Так уж завелось…
– Просим, Никодим Петрович…
– Давай, давай, капитан… Чего-нибудь такое, заковыристое.
Ларька, по-моему, уже пьян – глаза блестят…
– Нет, не заковыристое, – Никодим Петрович держит стакан высоко над головой и смотрит куда-то – не то в окно, не то еще дальше куда-то… – Мне хочется выпить, друзья, за то… – Голос его чуть вздрагивает. – Вот мы с вами лежим в этой палате… Я, Керженцев, Бояджиев, Ларька, Седых… Разные все люди. Я вот старик, а Ларька и Седых совсем еще дети… И жили мы как-то, каждый по-своему… У каждого были свои интересы… Один дома строил, другой на сцене выступал – глаголом, так сказать, сердца зажигал, третий – не знаю что там на заводе – напильником работал… А я вот считал… Сорок лет считал… А по вечерам в шахматы с сыном играл, в театр ходил, двух инженеров вырастил… Каждый по-своему жил. А вот случилось, и собрались мы все в этой палате, чужие, незнакомые люди… И дома наши где-то далеко… И в них, может быть, даже немцы… – Он проводит рукой по лысине. – Отвык пить. Голова немного кружится… Простите… Но я хочу сказать, что мы вот скоро месяц как живем в этой палате… И мы никогда не говорили о том, что у нас там, в самой глубине… На сердце… Мы смеемся, шутим, ворчим, кричим иногда друг на друга, ругаем часто начальство, всяких там старшин и интендантов. Но все это где-то сверху, на поверхности… А внутри одно, одно и то же, одно и то же… Сверлит, сверлит… Одна мысль… только одна… Прогнать их к черту. Всех до единого… До единого… Правда?
Голос его опять вздрагивает. Он останавливается, обводит всех нас глазами…
Ларька, раскрыв рот, не сводит с него глаз…
– Нескладно что-то у меня выходит… По-газетному как-то… Но вы понимаете меня, правда? Так вот… Странный мой тост будет… Обычно говорят – дай бог нам встретиться следующий раз в этой же компании. А я вот наоборот… Я хочу выпить за то, чтоб первый Новый год после войны каждый встречал у себя дома, со своей семьей, со своими друзьями и чтоб… Ну, вот и все… Давайте выпьем… И чтоб скорей этот год пришел…
Ларька ловко перескакивает на своей единственной ноге через кровать и крепко, прямо в губы целует Никодима Петровича.
– Мировой старик… Ей-богу, ми-ировой!
Мы чокаемся и выпиваем. Минута молчания. Все жуют… И вдруг над самым ухом раздается такой знакомый, такой приятный голос:
«…В результате успешного прорыва и наступления наших войск в районе Сталинграда окружены следующие соединения и части немецких войск: 14, 16 и 24 немецкие танковые дивизии, 71, 76, 79, 94, 108, 113, 295, 297, 305, 371, 384 немецкие и 20 румынская пехотная дивизии, 1 румынский кавалерийский дивизион и остатки 44, 376, 384…»
– А ну подкрути, подкрути, Седых…
«…Три дивизии Равенна, 3-я дивизия Челлера, 5-я дивизия Кассерия, 2-я дивизия Сфорцеска, 9-я дивизия Пасуби, 52-я дивизия Торино, 1-я бригада чернорубашечников…»
– Здорово, черт возьми!
А Левитан свое:
«…А всего по всем трем этапам, за шесть недель, с 19 ноября по 31 декабря освобождено 1589 населенных пунктов, убито 175000 солдат и офицеров противника, взято в плен 137 650… самолетов 4451… автомашин 15049…»
Ларька прыгает на одной ноге и размахивает костылем:
– Пятнадцать тысяч автомашин! Подумать только… Пятнадцать тысяч…
Опять наливаем. Опять чокаемся. Опять наливаем…
– Вы что, с ума сошли? – В дверях Варя. Взгляд испуганный.
– На, пей… – подскакивает Ларька. – Ты представляешь, что это значит, Варечка? Пятнадцать тысяч машин… сто тридцать семь тысяч пленных.
– И еще шестьсот пятьдесят, – Никодим Петрович наливает себе еще один стакан и залпом выпивает. – Пить так пить… Давай поцелуемся, Варечка…
И они целуются – крепко, в обе щеки, по-русски – раз, два, три…