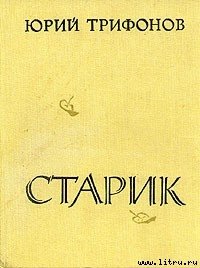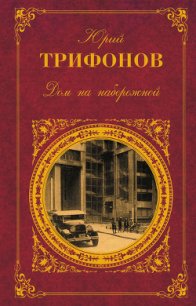Время и место - Трифонов Юрий Валентинович (читаем книги TXT) 📗
– Других близких нет. Есть сын Вася. Со своей няней.
– А что из себя представляет няня? Она сюда приезжала?
– Нет, она боится сюда ехать. И Катю никогда не видела. Ну, что она из себя представляет? Женщина еще не старая, была бухгалтером, вышла на пенсию. С невесткой и сыном жить не может. Они ее, попросту говоря, выжили из квартиры. И вот, вместо того чтобы нянчить собственного внука, нянчит чужого.
– Она не может быть для вашей дочери чем-то...
– Нет, – говорю я. – Ничем. Она только для Васи.
– Скажите... – внезапно он хмурится, краснеет и вонзает в меня в упор, как истый следователь, свои черные неприязненные глаза. – А вот та женщина, которая сейчас с вами, она не может стать для Кати близким человеком?
Он спрашивает про Юлию Федоровну. Значит, Катя рассказала. Но я не знаю, что именно. Катя Юлию Федоровну не жалует. Даже правильней так: с трудом выносит. И я понимаю, кроме ревности тут много всего. Юлия Федоровна молода, красива, прекрасно одевается. Однажды я застал Катю врасплох: она рассматривала тайком шубу Юлии Федоровны на вешалке, и выражение лица у Кати было несчастное. И я дал себе слово в ближайшую поездку купить Кате шубу. Но вскоре после этого появился Геннадий, и я решил, что теперь он должен о Кате заботиться.
– Трудно ответить, – говорю я. – Пока что на это не похоже.
Его взгляд неприятен. Мне кажется, Степан Александрович вторгается в область, вовсе не необходимую для его исследования. Но он продолжает усугублять неприятное:
– Скажите, а существует ли возможность, что вы останетесь с этой женщиной, а Катя будет одна?
В ближайшее время нет, но в принципе почему такую возможность исключать? Катя и сама не настаивает жить вместе. Но Катя, кажется, ни на чем не настаивает. После молчания, во время которого мы оба смотрим в окно на сухой, вяло летающий на фоне темной сетки деревьев снег, а за снегом и деревьями грязновато желтеет кусок стены старого корпуса, и я думаю: «Все это я видел сорок два года назад, как глупо прожить долгую жизнь и увидеть опять то же самое». Степан Александрович произносит негромко, быстро и категорично:
– Катя не должна быть одна!
Я киваю. Он говорит: Катя практически выздоровела, но он за нее боится. Душное волнение поднимается, и я хочу спросить: «Может быть, вы боитесь не за нее, а за меня? К т о д а л в а м п р а в о б о я т ь с я з а м е н я?» Он что-то пишет, наклонив шелковистую белокурую шевелюру. Рука, в которой он держит перо с золотым наконечником, кажется неестественно мощной, с большими смуглыми пальцами, и массивность руки тоже кажется мне неприятной. Я во власти этой руки. Все страшно переменилось: он старше, я младше. Я трепещу перед ним. Я хочу догадаться: что он пишет? Он протягивает бумагу и, глядя сурово, говорит: «Это лекарство французское, но есть аналог югославский. Вы бываете за границей, у вас есть друзья. Попросите Юлию Федоровну, в крайнем случае». Я удивлен: «Что вы знаете про Юлию Федоровну?» – «Я знаю, что ее отец пользуется сто десятой аптекой. Моя бывшая жена с Юлией Федоровной знакома, та что-то ей доставала. В сто десятой аптеке можно достать наверняка». Я смотрю на него в ошеломлении: ничего подобного про Юлию Федоровну я не знаю! А знаю вот что: когда Юлия Федоровна лежит в задумчивости, подперев голову рукой, с сигаретой, пепельница перед нею на простыне, ее живот кажется полнее обычного, талия узка и как бы провалена, а бедро поднимается полукруглой могучей горой, она напоминает оранжевую женщину Модильяни с синими слепыми глазами. И верно, она бывает слепа. Не видит того, что видеть необходимо. В августе я метался по городу, ища какие-то транквилизаторы для Кати, и Юлия Федоровна не обмолвилась ни словом про сто десятую аптеку. Я бормочу: «Хорошо, я поговорю с Юлией Федоровной...»
Мы выходим с Катей на заснеженный двор. Декабрьский день смерк. В окнах за деревьями горит желтый больничный свет.
– Он так сказал? Ну и прекрасно...
– Ты как будто не рада.
– А чего радоваться?
Мы долго ходим по дорожкам, я рассказываю про Васеньку, про то, как делали прививку, как он мужественно держался, а Анна Георгиевна чуть не потеряла сознание от страха, как она глупа, но добросовестна, а Васенька умен, но строптив, и Катя слушает безучастно. Вдруг говорит без всякой связи:
– У тебя там своя жизнь. А у меня... – вздохнула. – Стыдно признаться: здесь у меня интересов больше. Здесь я ничего не боюсь. Степан Александрович приходит каждый день, мы так мило беседуем. Так откровенно.
– Он будет приходить туда. Я его попрошу.
– Нет, не будет. У него все сложно: с отцом, с женщинами...
Она улыбается несколько загадочно, и улыбка застывает на ее бледном отекшем лице с бескровной полоской рта. Она забыла про улыбку. Мы кружим по двору, сумерки густеют, она улыбается. Я рассказываю про Васеньку. Катя говорит шепотом:
– У Степана Александровича тоже есть ребенок. Но его забрала жена...
Ей хочется говорить про Степана Александровича, и я спрашиваю: какие у него сложности с отцом? У Кати тоже сложности с отцом. У всех сложности с отцами. В моем детстве тоже были сложности с отцом, но другие. Катя рассказывает: Степан Александрович долго не мог простить отцу того, что тот ушел от матери. Потом простил, когда отец заболел тяжелым инфарктом, попал в больницу. Потом у самого Степана Александровича распалась семья, мать умерла, он остался один, невольно потянулся к отцу – близких-то больше нету! – а у того началась новая жизнь: он женился на молодой женщине, враче из больницы, у них родился сын, сейчас полтора года. Почти как Васенька. Дочка Степана Александровича старше, чем этот братик, родившийся у старика. Он говорит, что отец поседел, погрузнел, у него больная печень, больное сердце, он не годится для роли молодого отца, хотя бодрится вовсю. Довольно жалкая картина. Степан Александрович его жалеет и себя, конечно, тоже – все-таки отца потерял. Непонятно, зачем они пускаются на такие опыты. Я спрашиваю: кто пускается? Старики. Хочу возразить: разве отец Степана Александровича старик? Он, наверно, мой ровесник. Какой же старик? Вся эта история рассказана для меня, поэтому возражать глупо, я испытываю щемящее сочувствие к Кате, я обнимаю ее, прижимаю к себе и шепчу как бы в шутку: «Ты не потеряешь отца! Не волнуйся!» Она молча кивает и улыбается. Глаза ее закрыты. Она ждала, чтоб я обнял ее, прошептал эти слова, пускай шутливо. И теперь молчит, затихла, прижалась головой к моему плечу, а я продолжаю шептать: «И он не потерял отца. Потому что так не бывает. Как вы не понимаете? Твой Степан сам расстался и не понимает...» – «Его жена была ужасна». – «А отец? Тоже чем-то ужасен?» – «Отца он любит. Считает хорошим человеком, – шепчет Катя. – Его отец писатель. Но малоизвестный». Какая разница, думаю я, кто он. Они не понимают, что мы тоже дышим, надеемся. А мы не понимаем того, что мы им еще нужны. Почему я так долго не догадывался сказать простые слова?
Мы стоим в темном дворе. Снег стекает с деревьев. Великая сырость обнимает нас. «Писатель Антипов?– говорю я. – Да ведь я его знаю! Мы работали когда-то на одном заводе. Во время войны». – «Я ничего не читала», – говорит Катя и, мне кажется, вздыхает с облегчением. «Нет, я читал кое-что. Мы не виделись тридцать лет».
Степан Александрович дал телефон. Но звонить некогда. А вернее, не тот душевный настрой. Да и зачем, собственно? Все укатилось в такую мглу, ничего не разглядишь, очертания смылись: был малый Сашка, тугодум, медлительный, был похож на меня, но время всех делает похожими. Продавали с ним бекешу на Даниловском рынке. Ну и что? Теперь далекий, непонятный человек, писатель, я для него тоже далекий, непонятный, доктор математики. Какие-то две книжки его попадались, дочитал до конца. Неплохо. Для юношества. Но не уверен, стал бы дочитывать до конца, если б не знал Сашку. Зачем звонить? Его сын Степан Александрович намного мне ближе, важнее, он сейчас самый важный человек в мире. Степан Александрович усмехается снисходительно.