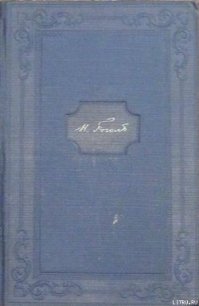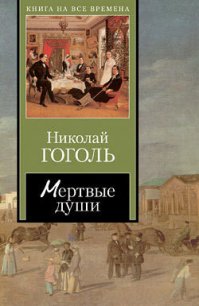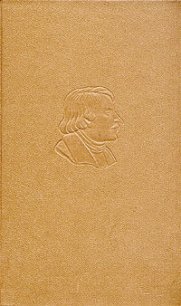Мертвые души. Том 2 - Гоголь Николай Васильевич (читаем полную версию книг бесплатно txt) 📗
— Полно вам, голубчик, убиваться. Не стоит вся эта история того. Вы пока полежите, а я до генерал-губернатора съезжу, поговорю с ним об вас. Обещаю вам это дело уладить, так что даже и не сомневайтесь.
И с этими словами Муразов вышел из комнаты, оставив Чичикова с его превосходительством вдвоём дожидаться. Во время его отсутствия Павел Иванович, можно сказать, совсем приободрился; слова, сказанные Афанасием Васильевичем, успокоили его, к тому же он похлебал горячего куриного бульону, сваренного прислуживающей в доме старухой, и укрепился не только душою, но и телом. В разговоре с его превосходительством они не касались этой темы, но Чичиков, решивши всё поставить по своим местам, сказал Александру Дмитриевичу, что он и есть тот самый молодой господин, об котором упоминал Муразов, на что генерал ответил, что эта история давняя и он видит искреннее раскаяние Павла Ивановича, видит истинную душу его, творящую добро для ближних, и что тому за примерами далеко ходить не надо, достаточно оборотиться на Улиньку и Андрея Ивановича, чтобы понять, кто таков Павел Иванович и каково у него сердце. При этих словах его превосходительства Чичиков даже прослезился, и генерал, растрогавшись, прослезился тоже. Часа через два воротился Муразов, и по его спокойному улыбающемуся лицу Чичиков с его превосходительством поняли что гроза, кажись, миновала. Афанасий Васильевич коротко описал им бывший у него с князем разговор и то, как генерал-губернатор поначалу и слышать не хотел про Чичикова, но потом, когда Муразов рассказал об том бедственном положении, в котором находился в это время Павел Иванович, князь немного смягчился, согласившись с Афанасием Васильевичем, что Чичиков и так уже изрядно пострадал и что за один проступок дважды не казнят.
— Правда, очень сердился на вас, Павел Иванович, за то, что молили его малыми детками, которых, как он выяснил, у вас и в помине нет. Но я ему на это сказал, что притеснённый в угол человек хватается за любую возможность, как утопающий за соломинку, так что на это сердиться не стоит, а надо отнестись с пониманием, — сказал Муразов, — одним словом, нового разбирательства над вами учинено не будет, но в городе он вам оставаться запретил. Сказал, что хотя бы как-то, но надобно вас наказать, и чтобы до окончания конной ярмонки вас в городе не было, ну да два с половиною месяца, я думаю, быстро пролетят…
— Как это, по какому это закону? — возмутясь, вступил в разговор его превосходительство. — А ежели человеку надобно в город по делам, это что же выходит, попрание в правах… — кипятился он, ухватившись за ещё одну возможность нелестно высказаться об прежнем своём сотоварище. — Нет, прошу прощения, господа, но это попросту самодур, — не унимался он.
Павел Иванович был смущён и немного напуган этим заявлением генерала, точно боялся, что князь мог бы как-нибудь услышать эти слова и изменить своё решение — не назначать над ним расследования, но Муразов несколько охладил обличительный пыл Александра Дмитриевича, сказавши, что по делам Павлу Ивановичу, само собой, никто не запретит появляться в Тьфуславле, а речь нынче идёт о том, что ему не позволено только лишь селиться в городе. Генерал несколько поутих, но всё равно ещё несколько раз помянул князя «самодуром».
Павел Иванович принялся было рассыпаться в самой что ни на есть горячей благодарности, но Муразов остановил его, сказавши, что это лишнее и что лучше бы Павел Иванович рассказал ему, чем он предполагает заняться в их губернии, и Чичиков ответил, что хотел бы заделаться помещиком, что первый шаг к этому им уже предпринят и что по совету господина Костанжогло приобрёл он недорогое имение у Хлобуева Семёна Семёновича, и хотя имение и расстроенное, но он приложит все свои силы и всё своё старание к тому, чтобы наладить его. Услыхавши имена названных им господ, Афанасий Васильевич с большой похвалою отозвался об Костанжогло, сказавши, что за такими, как он, людьми будущее, а про Хлобуева, качнувши головою, сказал:
— Жаль его, ведь чистая душа.
При этих его словах Чичикову стало немного не по себе, он вспомнил об том, что так по сию пору и не рассчитался с Хлобуевым, и решил завтра же ехать к нему с тем, чтобы отдать деньги. На этом они и распрощались с Афанасием Васильевичем и, усевшись в генеральскую карету, отправились к тому в имение.
В дороге Павлу Ивановичу сделалось совсем хорошо и весело на сердце, что, надо думать, было отчасти и результатом кровопускания. Чичиков уже представлял, как это случившееся с ним происшествие можно будет точно ненароком ввернуть в разговор — эдак многозначительно: мол, вот, доведён был врагами до такого плачевного положения, что и до кровопускания дошло, а иначе была угроза самоей жизни. Чувствуя приятную расслабленность во всём теле, он, полулёжа на подушках кареты, с удовольствием глядел в окно на бегущие мимо пейзажи, на голубой небесный свод, в котором грудились сияющие на солнце яркою белизною облака, напоминавшие Павлу Ивановичу о взбитых сливках. Он почувствовал, что проголодался, ибо чашки бульона, выхлебанного им после кровопускания, было явно недостаточно ему, любившему основательно и вкусно поесть. Но генерал Бетрищев, как нарочно, заместо того чтобы ехать прямо в имение, вздумал вдруг поворотить к монастырю, стоявшему по ту сторону реки, в чьих прозрачных водах отражались и синева неба, и белые зубчатые стены монастыря, и его башни, укрытые шатровыми тёсаными крышами.
— Надо бы проведать нашего старичка архимандрита, а то ведь когда ещё выберусь, — сказал его превосходительство, глядя на Чичикова, и карета пророкотала по брёвнам перекинутого через реку моста и въехала в монастырские ворота на посыпанные красным толчёным кирпичом монастырские дорожки. Тут за стенами монастыря стояла некая особенная тишина, нарушаемая лишь пением птиц да шелестом многочисленных дерев, вздымающих повсюду свои кудрявые верхушки, меж которыми горели на солнце золотоглавые купола монастырской церкви, вдоль дорожек раскинуты были клумбы, в изобилии поросшие самыми различными цветами, над которыми, вздрагивая крылышками, носились бабочки, ничем не нарушающие стоящей здесь тишины, которую приличнее было бы назвать покоем. И даже карета, только что столь громогласно грохотавшая по брёвнам моста, точно бы устыдилась издаваемого ею шума и пошла тише, едва слышно поскрипывая и шурша колёсами по толчёному кирпичу дорожек, так что даже внутри кареты было слышно, как лошади со свистом обмахивали себя хвостами, прогоняя липнущих до них слепней и мух, что звенели в тёплом летнем воздухе, вплетая своё звонкое жужжанье в покойные узоры тишины.
Его превосходительство велел остановиться у входа в монастырскую церковь и, пройдя под её своды в сопровождении Чичикова, поставил свечи перед иконами Спасителя, Божией матери и Николая угодника, чья икона почиталась здесь чудотворною, а затем, переговорив с бывшим в церкви дьяконом, заказал заупокойный молебен по столь давно отошедшей в иной лучший мир супруге. Павел Иванович тоже поставил свечечку и, глядя в глаза Спасителю, стал шептать слова молитвы. Прочитав «Отче наш», он стал благодарить бога за то, что гроза, вот-вот готовая было разразиться над его бедною головою, пронеслась мимо и он отделался одним лишь припадком, о котором осталось воспоминание в виде небольшой красной точки возле локтя. Но, шепча эти слова благодарности, он ощутил в груди некое чувство, схожее с тоскою, тоска эта точно засела где-то подле сердца, и у Чичикова вдруг что-то стало холодеть и теснить под ложечкой. Он снова глянул в глаза Спасителя, смотрящие на него с покоящейся под стеклом доски, и ему показалось, что глаза эти глядят на него с поразительным и обидным для Чичикова равнодушием, а тут ещё и свечка вдруг затрещала, брызнула расплавленным воском и погасла, выпустив напоследок синий дымок, тонкой струйкою поплывший куда-то вверх под высокие своды церкви, и Павел Иванович совсем расстроился, более того он даже испугался такого простого и весьма обычного случая, мало ли отчего проистекающего: то ли фитилёк свечечки был с узелком, то ли в воск попала водица; но Чичиков стал вдруг мелко и часто креститься и оглядываясь с опаскою, пошёл за генералом Бетрищевым, уже обо всем успевшим переговорить с дьяконом и собиравшимся идти вон из церкви.