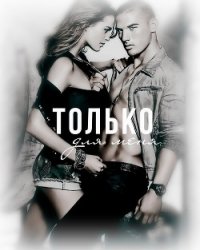В сторону Свана - Пруст Марсель (лучшие книги без регистрации TXT) 📗
— Как вы находите приглашенного мною гостя?
И Сван, впервые заметив, что Форшвиль, с которым он давно был знаком, может нравиться женщине и является довольно красивым мужчиной, ответил: «Препротивный!» Конечно, у него не было и мысли ревновать Одетту, но он не чувствовал себя теперь так хорошо, как обыкновенно, и когда Бришо, начав рассказывать историю матери Бланки Кастильской, которая «целые годы жила с Генрихом Плантагенетом, прежде чем вышла за него замуж», захотел побудить Свана попросить его продолжать, обратившись к нему: «Не правда ли, мосье Сван?» — тем фамильярно-грубоватым тоном, каким мы обращаемся к неотесанному мужику, нисходя до его умственного уровня, или к старому служаке, желая придать ему храбрости, то Сван уничтожил весь эффект Бришо, к великому гневу хозяйки дома, попросив у профессора извинения за то, что он проявил так мало интереса к Бланке Кастильской: все его внимание было поглощено вопросом, который он собирался задать художнику. Дело в том, что этот последний был в тот день на выставке другого, недавно скончавшегося, художника, друга г-жи Вердюрен, и Сван хотел узнать от него (ибо он ценил его вкус), действительно ли в последних работах покойника было нечто большее, чем виртуозность, так поражавшая публику уже на прежних его выставках.
— В этом отношении мастерство его было поразительно, но этот род искусства не кажется мне, как говорится, очень «возвышенным», — с улыбкой сказал Сван.
— Возвышенным… до высоты учреждения! — перебил его Котар, с комической торжественностью воздев руки.
Весь стол покатился со смеху.
— Ну, не говорила ли я вам, что с ним и двух минут нельзя остаться серьезным, — обратилась г-жа Вердюрен к Форшвилю. — Когда вы меньше всего ожидаете, он вдруг преподносит вам вот этакую шуточку.
Но от ее внимания не ускользнуло, что Сван, и притом один только Сван, не смеялся. Ему было не особенно приятно, что Котар поднял его на смех в присутствии Форшвиля. А тут еще художник, вместо того чтобы дать Свану интересный ответ, что он, вероятно, сделал бы, если бы находился с ним наедине, предпочел вызвать дешевый восторг у остальных сотрапезников, сострив насчет мастерства покойного мэтра.
— Я подошел совсем близко к одной из его картин, — сказал он, — чтобы рассмотреть, как это сделано; я уткнулся в нее носом. Как бы не так! Вы ни за что не определите, чем это сделано: клеем, мылом, сургучом, солнечным светом, хлебным мякишем или дерьмом!
— И дюжина делает единицу! — воскликнул доктор с некоторым опозданием, так что никто не понял соли его замечания.
— Такое впечатление, точно его картины сделаны из ничего, — продолжал художник, — так же невозможно открыть трюк, как в «Ночном дозоре» или в «Регентшах», и кисть еще увереннее, чем у Рембрандта или у Гальса. Там есть все и ничего, готов побожиться вам!
И, подобно певцам, которые, взяв самую высокую ноту, какая только в их средствах, продолжают оставшуюся часть арии фальцетом piano, художник ограничился тем, что стал бормотать с улыбкой, как если бы действительно красота этой живописи заключала в себе нечто необыкновенно забавное:
— Отлично пахнет, вам ударяет в голову, у вас дух захватывает, мурашки бегут по телу, — и ни малейшего средства разгадать, как это сделано; колдовство какое-то, трюк, чудо, — тут он громко расхохотался. — Это даже нечестно! — Затем, сделав паузу и торжественно подняв голову, он заключил низким басом, стараясь по возможности придать своему голосу гармоничность: — И это так лояльно!
За исключением моментов, когда художник сказал: «сильнее, чем „Ночной дозор“, — богохульство, вызвавшее протест у г-жи Вердюрен, считавшей „Ночной дозор“ наряду с „Девятой“ и „Самофракией“ [59] величайшими шедеврами, когда-либо совданными искусством, — и: „сделано… дерьмом“, — слова, после которых Форшвиль поспешно обвел взглядом сидевших за столом и, убедившись, что все „в порядке“, искривил губы жеманной и одобрительной улыбкой, — все присутствовавшие (кроме Свана) не отрывали от него восхищенных глаз.
— Я положительно любуюсь им, когда он закусывает вот так удила! — воскликнула, когда он окончил, г-жа Вердюрен, в восторге от того, что застольный разговор сделался таким оживленным в день первого визита в дом г-на де Форшвиля. — Ну, а ты почему же продолжаешь сидеть болваном, разиня рот? — накинулась она вдруг на мужа. — Ты ведь знаешь, что он может прекрасно говорить, когда захочет. Можно подумать, будто он в первый раз слушает вас, — обратилась она к художнику. — Если бы вы видели его в то время, как вы говорили: он прямо пил ваши слова. Завтра он наизусть повторит нам все, что вы сказали, не пропустив ни одного слова.
— Нет, я совсем не шутил! — запротестовал художник, восхищенный успехом своей речи. — У вас такой вид, будто вы думаете, что я вам все наврал, пустил вам пыль в глаза; отлично, я поведу вас, чтобы вы сами посмотрели, и вы скажете тогда, преувеличил ли я: бьюсь об заклад, что вы вернетесь в еще большем восторге, чем я!
— Но мы нисколько не думаем, что вы преувеличиваете, мы хотим только, чтобы вы кушали и чтобы мой муж тоже кушал; положите г-ну Бишу еще камбалы, разве вы не видите, что она у него совсем простыла? Мы никуда не торопимся, вы подаете так, точно в доме пожар; подождите немного, вы не предложили салат.
Г-жа Котар, отличавшаяся скромностью и редко открывавшая рот, умела, однако, найти должное самообладание, когда счастливое вдохновение посылало ей на уста подходящее слово. Она чувствовала, что оно будет иметь успех, это сообщало ей уверенность, и она вступала в разговор не столько для того, чтобы блеснуть, сколько для того, чтобы быть полезной карьере мужа. Вот почему она подхватила слово „салат“, только что произнесенное г-жой Вердюрен.
— Ведь это не японский салат? — сказала она вполголоса, обращаясь к Одетте.
Восхищенная и смущенная удачно сказанным словечком и смелостью, с какой она сделала таким образом тонкий, но прозрачный намек на новую пьесу Дюма, пользовавшуюся в городе успехом, она залилась очаровательным смехом простушки, не очень громким, но таким неудержимым, что несколько мгновений не могла совладать с собой.
— Кто эта дама? Она дьявольски остроумна, — спросил Форшвиль.
— Это еще пустяки. Вот мы покажем вам ее, если вы все пожалуете к нам обедать в пятницу.
— Вы сочтете меня ужасной провинциалкой, сударь, — сказала г-жа Котар Свану, — но, представьте, я еще не видела этой пресловутой „Франсильон“, [60] о которой все так трубят. Доктор уже был на ней (я припоминаю даже, он мне сказал, что ему доставило огромное удовольствие провести вечер с вами), и я должна сознаться, что нахожу неразумным заставлять его тратить деньги на билеты и идти в театр вместе со мной, раз он уже видел эту пьесу. Конечно, никогда не приходится жалеть о вечере, проведенном во Французской Комедии, там всегда так хорошо играют, но так как у нас есть очень милые друзья, — (г-жа Котар редко называла собственные имена; считая это более „изысканным“, она ограничивалась выражениями „наши друзья“, „моя приятельница“, и произносила эти слова неестественным тоном с важным видом лица, называющего фамилии только в тех случаях, когда оно желает), — которые часто имеют ложи и любезно приглашают нас на все новые пьесы, стоящие того, чтобы их посмотреть, то я вполне уверена, что рано или поздно увижу „Франсильон“ и составлю о ней свое мнение. Должна, однако, признаться, что чувствую себя в довольно глупом положении, ибо, куда я ни прихожу, везде, понятно, только и говорят, что об этом злосчастном японском салате. Все эти разговоры начинают даже немного утомлять, — прибавила она, видя, что Сван проявляет гораздо меньший интерес, чем она рассчитывала, к столь животрепещущей теме. — Впрочем, нужно признаться, что пьеса эта дает иногда повод для очень забавных шуток. У меня есть приятельница, большая чудачка, хотя очень хорошенькая женщина, пользующаяся большим успехом в обществе, всюду бывающая; она рассказывает, что заставила свою кухарку готовить этот японский салат, кладя в него все то, о чем Александр Дюма-сын говорит в своей пьесе. Она как-то пригласила к себе несколько знакомых отведать этот салат. К сожалению, я не была в числе избранных. Но она подробно рассказала нам об этом в ближайший свой „день“; по-видимому, получилось нечто ужасно противное, все мы хохотали до слез. Но, знаете, тут все зависит от того, как рассказать, — нерешительно заметила г-жа Котар, видя, что Сван сохраняет серьезный вид.