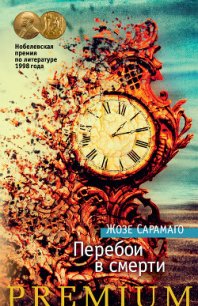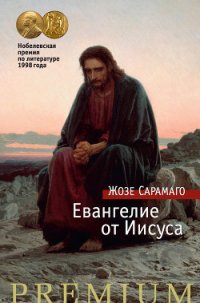Год смерти Рикардо Рейса - Сарамаго Жозе (читать книги полные .TXT) 📗
Известия, приходящие со всего прочего мира, не сильно изменились за последнее время: продолжаются забастовки во Франции, где число тех, кто принял в них участие приближается к полумиллиону, и, значит, в самом скором времени падет кабинет Альбера Сарро, а на смену ему Леон Блюм сформирует новый. Тогда, словно очередное правительство удовлетворит тех, кто сейчас недоволен, пойдут забастовки на убыль. Однако в Испании, а сказать наверное, вернулись ли туда севильские и бадахосские пикадоры после беседы с герцогами, которые предложили им: Здесь к нам относятся так, будто мы — португальские гранды, а может, и еще лучше, оставайтесь-ка лучше с нами, вместе будем быков колоть, мы затрудняемся, так вот, в Испании, говорю, забастовки растут как грибы, и Ларго Кабальеро уже произносит угрозы, в переводе звучащие примерно так: Стихийные выступления, не исключающие насилие, неизбежны до тех пор, пока власти не поддержат трудящиеся классы, он сказал — с него и спрос, но сказал чистую правду и добавил: И потому мы обязаны готовиться к худшему. Пусть и не совсем вовремя, но как кто-то некогда сказал, жертвы только тогда хороши, если есть настоящая ширь у души [58], каковая ширь обнаружилась у англичан, оказавших восторженный прием абиссинскому негусу, что лишний раз подтверждает правоту старинных речений относительно того, сколь дорого яичко к Христову дню и пользительны мертвому припарки — не так давно британцы бросили эфиопов на произвол судьбы, повернувшейся весьма печально, а теперь вот рукоплещут их императору, и если желаете знать, сударь мой, мое мнение по поводу всего этого, то я вам скажу: все это — чистой воды мошенничество. И потому стоит ли нам удивляться, что старики на Санта-Катарине ведут приятную беседу, а доктор-то уже ушел домой, беседу о животных — о том, что в окрестностях Риодадеса, что в окрестностях Сан-Жоан-де-Пескейра, объявился белый волк, прозванный Голубем, или о том, что львица Надя повредила ногу факиру Блакаману, и дело было в нашем «Колизее», на глазах у восхищенной публики, убедившейся, что цирковые артисты подвергаются всамделишному риску. Повременил бы Рикардо Рейс немножко со своим возвращением домой, смог бы вполне кстати и к месту вспомнить историю суки Уголины, и таким образом составилась бы недурная коллекция хищников — гуляющий пока на воле волк, львица, получившая лошадиную дозу наркотика, и наконец, собачка-детоубийца — у каждого из которых своя кличка: Голубь, Надя и Уголина, не может быть, чтобы только этим отличались звери от людей.
Однажды, ранней ранью, с точки зрения новообретенной склонности Рикардо Рейса к неге, когда он еще пребывал в полусне, его разбудил орудийный салют — вошедшие в Тежо военные корабли с торжественной расстановкой дали двадцать один залп, от которых задребезжали стекла, и он подумал сперва, что началась новая война, но тотчас вспомнил — нынче десятое июня, накануне об этом и в газетах было, День Нации, повод вспомянуть наши прошлые великие свершения и задуматься о грядущих. Он сонно осведомился у своего организма, хватит ли энергии вскочить с измятых простынь, настежь распахнуть окна, чтобы последние отзвуки торжественной канонады без помехи проникли в жилище, бестрепетно распугивая обитающих в нем призраков, стирая незаметную глазу плесень, прогоняя тлетворный ее запах — но покуда он все это обдумывал и сам с собою обсуждал, окончательно прекратились колебания воздуха, снова воцарилась на Алто-да-Санта-Катарина всеобъемлющая тишина, и Рикардо Рейс снова закрыл глаза и задремал, все у нас в жизни не так, все как не надо: спим, когда следует бодрствовать, переминаемся с ноги на ногу, когда должно маршировать, закрываем окно, хотя лучше бы держать его открытым. Уже днем, возвращаясь домой после обеда, он заметил у пьедестала памятника Камоэнсу цветы, возложенные какими-то патриотическими союзами как дань благодарной памяти нашему великому эпическому поэту, воспевшему, как никто, благородные свойства португальской нации, и с намерением ясно дать понять всем и каждому, что мы более не имеем ничего общего с той мерзостной и тусклой грустью, которой терзались в шестнадцатом столетии, а теперь мы — очень даже всем довольные, уж вы поверьте, и сегодня вечером включим здесь на площади сколько-то прожекторов, дабы вся фигура сеньора Камоэнса была освещена, да что я говорю?! — не освещена, а преображена ослепительным сиянием, без вас знаю, что поэт был крив на правый глаз, ну и что с того, левый-то у него остался, вполне достаточно, чтобы нас увидеть, недаром же говорится «Хоть бы одним глазком взглянуть», вот он и взглянет, а если слишком ярким и резким покажется ему этот свет, нам не составит труда притушить его или вовсе выключить, погрузить площадь в полу— или в полный мрак, в беспросветную первоначальную тьму, мы к ней привычные. Вышел бы Рикардо Рейс сегодня вечером из дому, повстречал бы на Площади Луиса де Камоэнса Фернандо Пессоа, который присел на одной из скамеек с видом человека, пожелавшего подышать морским воздухом, а рядом ищут прохлады еще несколько семей и одиночек, и светло как днем, и кажется, что лица сияют восторгом, и сразу делается понятно — вот он, День Нации. Может быть, захотел бы Фернандо Пессоа мысленно прочесть при сей, как говорится, верной оказии те строки своего «Послания», которые посвящены Камоэнсу, и потребуется известное время, чтобы осознать — нет в «Послании» ни строчки о Камоэнсе, да как же такое возможно, однако же нет — и все, невероятно, но факт, от Улисса до короля Себастьяна всем нашлось место, помянуты и пророки — Бандарра и Виейра [59] — а про Камоэнса, вообразите, ни полслова, и от этого упущения, зияния, пробела затрясутся у Фернандо Пессоа руки, и совесть, воззвав к его сознательности, спросит: Отчего же так? — бессознательное же затруднится с ответом, и тогда бронзовые уста Луиса де Камоэнса, дрогнув во всепонимающей улыбке, присущей тем, кто давно уже почил, произнесут: От зависти, дорогой Пессоа, но бросьте, не терзайтесь, там, где мы с вами сейчас, ничего уже не имеет значения, придет день — будете сто раз отринуты, придет другой — сами пожелаете, чтобы вас отринули. И в это самое время, в квартире на втором этаже дома по улице Санта-Катарины пытается Рикардо Рейс сочинить стихи к Марсенде, чтобы завтра нельзя было сказать, что напрасно появлялась в его жизни Марсенда: Это лето уже оплакиваю и во вспять опрокинутой памяти по цветам, что утрачу вновь, слезы горькие лью [60], так эта ода будет начинаться, до этого места никто и не догадается, что речь пойдет о Марсенде, хотя известно, что часто мы начинаем говорить о горизонте, ибо это — кратчайший путь к сердцу. Спустя полчаса или час, или много часов — согласимся, что при занятиях стихотворством время то летит, то вовсе замирает — обрела форму и смысл средняя часть оды, и теперь это не жалоба, как казалось прежде, а мудрое признание в том, что нет средства спасения: Через двери годов, мною прожитых, проходя, представляю густую тьму бездны, гулом наполненной, где не будет цветов. Весь город объят рассветным сном, погасли, лишившись смысла, ибо не для кого светить, прожектора вокруг статуи Камоэнса, вернулся к себе Фернандо Пессоа, промолвив: Бабушка, я уже здесь, и в этот миг стихотворение завершается, завершается с трудом, и, против обыкновения, есть в нем точка с запятой, поставленные с большим неудовольствием, ибо мы-то знаем, как боролся с ними Рикардо Рейс, не хотел он здесь этого знака, да пришлось поставить, и давайте угадаем, куда именно, угадаем, чтобы создать иллюзию сопричастности к творчеству: Розу утром сорвав случайную, не бросаю, Марсенда, пусть вянет со мною, пока не свершит поворота в ночь вместе с нами земля. Рикардо Рейс, как и в чем был, лег на кровать, положив левую руку на листок бумаги, если бы, не просыпаясь, заснул он вечным сном, подумали бы люди, что это — его завещание, духовная, прощальная предсмертная записка, и не сумели бы понять, что это, даже если бы прочли, ибо женщины не носят имени Марсенда, это слово из другого мира, из другого края, женского рода, но герундиальной породы, такое же, например, как Блимунда [61], потому что это имя ждет женщину, которая будет его носить, в случае с Марсендой — дождалось, да только слишком далеко она.
[58] Строчка из стихотворения Фернандо Пессоа «Португальское море» (перевод ?. Витковского).
[59] Одна из глав-поэм книги Ф. Пессоа «Послание», проникнутой мессианскими настроениями, посвящена португало-бразильскому политическому деятелю, философу-утописту и моралисту Антонио Виейра (1608-1697) который в созданном им «ключе» к мистической поэме «Стансы Бандарры», приписываемой португальскому сапожнику, жившему в XV в., и в книге «История будущего» предназначал португальцам особую роль в грядущей мировой мистерии — они принесут земле мир и благо и должны готовить себя к этой миссии.
[60] Перевод Л. Цывьяна
[61] Главная героиня предшествующего романа Ж. Сарамаго «Воспоминание о монастыре».