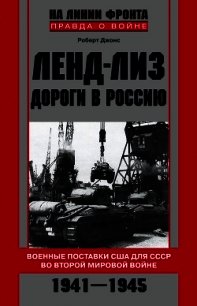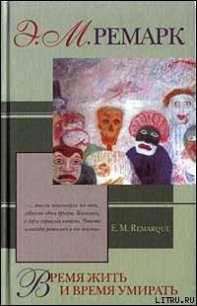Я бросаю оружие - Белов Роберт Петрович (электронные книги бесплатно .txt) 📗
— ...Строгий выговор с занесением в личное дело — за что? За хулиганство?
— За хулиганство, — повторил Очкарик.
— Против хулиганства! — опять высунулся Мустафа.
— А що? — даты ему строгача за боротьбу супротив хулиганства! — снова расхохотался Титаренко.
— Давайте без неуместных шуточек! — одернул его Очкарик (а своего Перелыгина перед тем так и не за такое не посмел, хоть тот ему же самому в рожу очкастую и плюнул). — Предлагаю так: за хулиганство, выбрасывание комсомольского билета и обманывание... обман то есть, комсомола.
Но ребятам, видимо, понравилось такое идиотское положение, когда выговор дали, а теперь сами не могут определить — за что. Они уперлись, им доставляло радость мурыжить Очкарика, и они никак не желали соглашаться ни с какими его предложениями, даже и просто за одно хулиганство.
— За обман сам себе же и запиши. Единоличник!
— Несправедливо!
— Неправильно!
— Он же сам!.. И ему же...
— А он не выбрасывал!
— В чем виноват, за то и выносите!
— За борьбу с хулиганством хулиганскими способами — вот так надо писать, если делать по совести! — перекрыл всех Бугай.
— Методами, — подправил его Павлик Сухов.
Очкарик пробовал было уговорить ребят, что так не положено, но парни больше ничего не хотели знать. Аж застучали ногами в пол. Очкарик всем до чертиков надоел, слушать его не желали вовсе. Кроме того, ребятам, видать, здорово понравилось одно эдакое-такое объяснение выговора — своей непричесанностью, несообразностью ни с чем и непохожестью ни на что, что положено. А поди поспорь — все вроде в таком случае правильно! Да мне и самому оно будто тоже пришлось по душе — наподобие шрама, заработанного в драке: хоть и не в бою получен, и не на самое подходящее место пришелся, а все будто форсисто.
Бугай заявил Очкарику окончательно:
— Во! Все: за борьбу с хулиганством хулиганскими методами. Законно! — А потом подъелдычил Изьку Рабкина. — Чего еще смотришь? Пиши свою филькину грамоту! Писарь, пиши: писарю жалования ни шиша не прибавим!
Изька и Очкарик, оба, растерянно, но как-то и очень настырно смотрели на Семядолю. Очкарик даже не выдержал, обратился к нему, будто прилюдно ища последней защиты:
— Семен Данилович?
Семядоля, как всегда, непонятно с чего улыбался:
— Что же... По-моему, и недурственно? Во всяком случае, вполне соответствует действительному положению вещей, да? Да прошу помнить, что драка еще ведь не исчерпывает вины Кузнецова. ...И за безобразное отношение к комсомольскому билету — так?
На этом и порешили. Последними своими словами Семядоля на мои радости будто холодной воды вылил, а то я чуть ли не ликовал в душе. Тогда понял, что ликовать-то мне не с чего, да и все мои «радости» пока впереди.
Тут же мы провели и довыборы. Сперва предложили в комитет кто-то Витьку Зырянова, кто-то Павлика Сухова, но Семядоля сказал, что он их фамилии привел в своем выступлении чисто случайно, только лишь для примера, а какой же смысл избирать их в комитет, когда они заканчивают школу? В комитет выбрали Вовку Горбунка, Волдыря. Волдырь дак Волдырь — шишка!.. На том закончили. Я тем временем хоть чуточку отошел.
Когда стали расходиться, Семядоля сказал:
— Хохлов и Кузнецов, зайдите оба ко мне в учительскую.
Смешное дело: пришлось решать совершенно глупущую задачу, прежде чем пройти, как он велел, — переждать Очкарика или, наоборот, зайти раньше него. Идти вместе, как, можно было понять с его слов, предлагал Семядоля, было, конечно, невозможно. Торопиться прежде Очкарика повидаться с директором — на фиг бы я когда такое делал. А переждать Очкарика — было как вроде бы уступить ему дорогу.
Очкарик, само собою, обо всяком подобном и подумать не думал. Как же, шишка с перцем, и притом целый прыщ; ему не привыкать стать ходить на разные беседы по важным кабинетам... Пока я мямлил-раздумывал; он протопал в учительскую с деловым, гордым видом. Я помялся-помялся и тоже пошел.
Семядоля, видно, специально ждал меня, потому что они молчали. Он и еще помолчал, раздумывая, потом сказал:
— Вот что, мальчики. Точнее, уже молодые люди... Боюсь, что мне не удастся то, что хочу сказать вам, выразить как-то попроще, а следовательно, и передать вам. И упрощеннее далеко не всегда значит доходчивее. Давайте уже как получится, а вы напрягитесь и постарайтесь меня понять. Так вот: стремление утвердить свою личность вполне закономерно в вашем возрасте. Стремление утвердить собственную личность способами и средствами подавления и оскорбления личностей других — и давнее в человеческом обществе, и живучее. Найти иной путь самоутверждения труднее, конечно, но значительно ценнее уже. Утвердить собственную личность, помогая самоутверждению других, — понимаете меня? — именно безоговорочно помогая самоутверждению других, обнаружить в себе самом такие возможности и найти правильный способ и путь их реализации вообще трудно, в любом возрасте. Но зато это очень весомо, плодотворно и благородно. Именно к такому самоутверждению и должен стремиться каждый сознательный член нашего общества, комсомолец — особенно, именно такое самоутверждение личности признает и поддерживает сам социалистический строй. Вы очень разные по характеру, может быть, даже и по мироощущению люди, но то, что я вам говорю, равно касается вас обоих. Понять все это сейчас для вас, вероятно, очень еще трудно, но постарайтесь мною тут сказанное если не понять, то хотя бы запомнить, и все-таки — как можно точнее и раньше понять. Тебе понятно, Витя, о чем я говорю?
— Понятно, — ответил я. Мне и в самом деле казалось тогда, что все мне отлично понятно.
— Ну, так сразу и понятно уже? — улыбнулся Семядоля. — Хорошо, иди. Вы, Володя, на минуту останьтесь.
Учительская у нас с фанерными стенками, и то не до потолка, просто выгорожен кусок коридора возле окон, с фанерной же дверью; и я, хотел не хотел, услышал продолжение разговора Семядоли с Очкариком:
— Скажите, Володя: из каких соображений исходя, вы вспомнили сегодня ну хотя бы о стычке Кузнецова с Ильясом Араслановичем? Вы, надо думать, знаете, в чем там было дело? Однако... Вам сейчас, наверное, кажется, что все, о чем я только что говорил, относится к одному Кузнецову и почти неприменительно или вообще неприменимо к вам? Но послушайте меня внимательно...
Мне тоже хотелось очень внимательно послушать, что он такое хотел сказать про Очкарика прямо ему самому, только на хрена бы мне было позориться — подслушивать еще! Я почапал быстрее, правда почти через силу заставляя себя уходить: так было охота дослушать до конца.
Страшно хотелось курить после таких передряг (как? — по-моему, нормальное слово), и я вспомнил, что в уборкасе (ну, это же просто из «уборной») на перекладине переборки у меня заначен (не знаю, все так говорят) на черный день большущий бычок... то есть окурок, а спички были, и я отправился туда.
На удивление, чинарик, окурок то есть, оказался на месте, никто его не накно... не нашел, и я устроился за дверью прямо там же, подолгу смакуя каждую затяжку. Хотя в школе, похоже, никого из учителей, кроме Семядоли, не было и никто не должен сюда зайти, но раскуривать одному посередь всего заведения было непривычно; когда курили капеллой (компанией), мы, конечно, не прятались по углам; можно было сделать вид, что просто так о чем-то толкуем (беседуем), если кто и появится из мужиков-учителей, но в одиночку и по двое всегда курили за дверью — неудобно все-таки.
Вдруг я услышал шаги и картавый голосишко Изьки Рабкина:
— ...Горком имеет право самому исключать. Особенно, если по-разному решили комитет и общее собрание. А дира за подрыв авторитета секретаря комсомольской организации тоже по головке не погладят. Ты ненароком расскажи кому-нибудь...
Они пристроились к желобу, стоя спинами ко мне. Ну, погодите, гады!
Только драку затевать — сразу же после такого собрания! — было как-то не тогось...
Я вышел из-за двери и сказал:
— Вы, рахиты четырехглазые! Если узнаю, что вы как-нибудь насиксотили про Семядолю, вам не жить! Поняли?