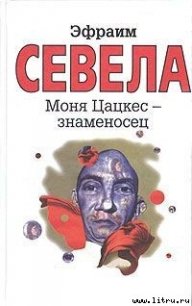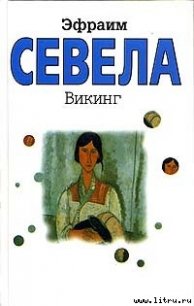«Тойота Королла» - Севела Эфраим (читаем книги бесплатно .TXT) 📗
И как я в душе ни сопротивлялся ее доводам, прилипчивый, необъяснимый страх поневоле овладел и мной.
Но еще месяца два прошло без каких-либо признаков надвигающейся беды. Алдона внешне успокоилась, я продолжал работать. Но из Каунаса старался отлучаться как можно реже, чтоб не оставлять ее одну.
А потом вдруг распоряжение из Москвы: меня отзывают из Литвы в аппарат редакции. Дают неделю на сборы. Со следующего понедельника я должен заступить в Москве на новую должность.
К моему удивлению, Алдона встретила эту весть спокойно. Взволнован и оглушен был я. Все рушилось. Через неделю мне предстоит расстаться с Алдоной. И расстаться навсегда. Потому что мой перевод из Литвы в Москву совершался не по соображениям служебным, а, в первую очередь, чтоб меня оторвать от Алдоны и тем самым уберечь мою репутацию коммуниста, оградить меня от нежелательной компрометации. Я догадывался, что все это было затеяно по инициативе Малинина и не без согласия моего отца. Как я выяснил много позже, решение о переводе в Москву с целью спасения моей карьеры было принято после обсуждения длиннейшего доноса, с точными, как в военном рапорте, датами и ворохом интимных подробностей о моих отношениях с Алдоной, составленного не кем иным, как Колей Глушенковым.
Брать Алдону с собой в Москву мне бы не позволили ни мое начальство, ни отец с матерью. Кроме того, ей бы не разрешили жить в Москве. Чтоб прописать ее там, я, москвич, должен быть на ней официально женат. А я не был готов к браку. Считал себя слишком молодым для этого шага.
Видя, как я томлюсь и нервничаю, и пристыженно, как нашкодивший кот, отвожу глаза в сторону, Алдона сказала мне с грустной улыбкой:
— Я знаю, что тебя томит. Ты — честный человек, и тебе стыдно, что вынужден бросить меня здесь… где… никто меня не любит. Верно ведь?
Мне ничего не оставалось, как кивнуть.
— Но ты это делаешь не по своей воле. Тебя загнали в угол. И я понимаю, что спасение для тебя одно — бросить меня и уехать.
— Или бросить работу, — неуверенно буркнул я.
— Работу ты не бросишь. Для тебя в ней вся жизнь. Вы, русские, работу ставите выше всего. Да мне и не нужно такой жертвы. Ты бы потом во всех своих бедах винил меня.
— Так что же делать? — завопил я. Мне было стыдно и горько.
— Не кричи, — спокойно попросила Алдона. — Не омрачай наши последние дни. Садись рядом, успокойся. Возьми себя в руки.
Она еще утешала меня. От этого можно было сойти с ума. Мы сидели на диване. Я склонил голову ей на грудь, пряча глаза, чтоб она не видела слез, а она ласково, легко водила ладошкой по моим волосам, и ее голос звучал ровно, без дрожи:
— Так должно было завершиться. Мы с тобой не пара. Ты уедешь в Москву, сделаешь карьеру и доберешься до таких высот… как твой отец. Советская власть — твоя власть. И никуда она тебя от себя не отпустит. А я для нее — чужой элемент. Враждебный. В этом она не заблуждается. Тебе подберут или ты сам найдешь жену под стать. И все у вас будет хорошо.
Я слушал и поражался трезвости ее суждений. Ведь ей еще не исполнилось восемнадцати лет. А она говорила со мной, великовозрастным дубиной, как умудренная жизнью мать с неразумным сыном. И тон был материнский. Покровительственный. Прощающий. Жалеющий. И любящий.
— Но ты-то? Как будешь ты? — простонал я.
— А что со мной станется? Не умру.
— Тебя же тут, в Каунасе, заживо съедят.
— Ничего, я из живучих.
— Вернешься к матери? Она тебя знать не хочет. Кто тебя приютит?
— Не знаю. Не думала об этом.
— О чем же ты думала?
— О чем? Знаешь, о чем я все это время думаю… с тех пор, как пришло это известие?
— Знаю. Презираешь меня.
— Нет.
— Не презираешь?
— Не презираю.
— Какого же еще отношения я, подонок, заслуживаю?
— Я тебя жалею.
— За что? Ведь худо будет тебе, а не мне.
— Нет. Худо будет не мне. Что бы дальше ни было, а мне будет хорошо. Потому что я остаюсь счастливой.
— От чего? Что я тебя трусливо бросил в беде?
— Счастливой от того, что я почти год была по уши влюблена. Ты себе даже и представить не можешь, какой ты меня сделал счастливой. Я тебе за это благодарна и всю жизнь не забуду.
Я повернулся на спину и лежал затылком на ее коленях. Снизу мне были видны ее острый подбородок, тонкая детская шея, на которой пульсировала жилка. Рука ее поглаживала мой лоб, брови, нос. Я губами ловил ее ладони и целовал с запоздалой нежностью, какой прежде не проявлял.
— Мне ничего не страшно, — продолжала Алдона. — Потому что всегда, в любой беде, одна-одинешенька, буду помнить, что целый год я была счастлива, как ни одна женщина в мире.
— Ну, уж как ни одна в мире… — слабо попробовал я вернуть ее на землю.
— Конечно! Ручаюсь, такого счастья никто не изведал. И не изведает! Даже если всю жизнь проживет с мужчиной. Мне хватило одного года, чтоб насытиться на весь мой век. Ты и представить не можешь, как много ты мне дал.
— Чем? Что я такого для тебя сделал?
— Тем, что вызвал во мне эту любовь. Вызвал. И осчастливил. А себя обделил.
Она умолкла, ища слов помягче, чтоб не так больно ранить меня.
— Ты меня, мой милый, не любил. Ты лишь позволял себя любить. И этим себя обворовывал. Тебе не привелось испытать того, что я испытала. Ты остаешься ни с чем. А я… сказочно разбогатела. Я — с большой любовью. И ее у меня не отнять ни Малинину, ни Глушенкову, ни твоему отцу… и даже всей советской власти. С этой любовью я останусь навечно. Ее нельзя конфисковать. Нельзя арестовать. Сослать в Сибирь. Она — моя. До гроба.
Поэтому не гляди на меня побитой собакой. Не нужно жалостных взглядов. Ты ничего не отнял у меня. А дал очень много. Спасибо тебе. За мою любовь.
Как я ни был растерян и подавлен, готовясь к отъезду, я все время думал о том, что теряю редкий подарок судьбы, попавший в мои руки, который мне так и не удалось сберечь.
А она собирала меня. Стирала и гладила. Пришивала пуговицы. Укладывала мои вещи. Она собирала меня в путь, из которого уже не будет возврата. И ни слезинки, ни вздоха. Даже улыбалась. Подбадривала меня.
Как-то, прижимаясь ко мне в постели, она прошептала на ухо:
— Если тебе когда-нибудь станет плохо, случится беда. Кто знает? Попадешь под трамвай… не дай Бог, или выгонят из газеты. И ты никому не будешь нужен… все от тебя отвернутся… знай, что есть одно место на земле, где тебя всегда примут в любом виде. Этим местом будет мой дом. Когда бы это ни случилось. Даже если и буду замужем и будут у меня дети, все равно приди — в моем доме тебя ждут комната и уход.
Мы с ней условились, что провожать меня на вокзал она не поедет. Там будут Малинин, Глушенков и другая братия, с которой ей стоять вместе не с руки. Мы попрощались дома. И она ушла с маленьким чемоданом за час до того, как приехали меня отвозить на вокзал. Куда она направилась, сколько я ни бился, не сказала.
В вокзальном ресторане провожающие устроили шумную попойку. Я хлестал водку без меры, стараясь заглушить сосущую тоску.
Поезд отошел, и вместе с перроном стали уплывать назад машущие Малинин, Глушенков и еще какие-то люди. Уже в самом конце платформы среди чьих-то спин и голов мелькнуло курносое лицо Алдоны с развевающимися волосами. Это не было галлюцинацией. Могу поклясться чем угодно. Я отчетливо различил не только лицо, но и плащ-накидку в черно-красную клеточку, распахнувшийся на бегу. Я даже запомнил ее круглые колени, взлетавшие в беге. Рот ее был широко раскрыт. Она кричала какие-то слова. Надеясь, что я услышу. Но я ничего не уловил. Окна вагона были закрыты. А потом и Алдона исчезла… Поезд, набирая скорость, поворачивал, выгибал вереницу вагонов, закрыв от меня и вокзал, и платформу, и всех, кто был на ней.