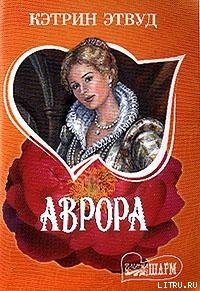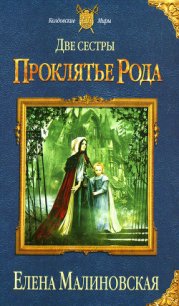Мужчина и женщина в эпоху динозавров - Этвуд Маргарет (книги регистрация онлайн .txt) 📗
Это неправда, ей случалось просить его и раньше. «Игрушки За Мир», спасите корейского поэта, долой атомную бомбу. Другое дело, что раньше Нат никогда не поддавался. Он сам не может понять, почему согласился на этот раз. Вряд ли у этого начинания больше шансов на успех, чем у других материных предприятий. Но сейчас Нат решил, что собирать подписи против полиции — не более бессмысленно, чем многие другие вещи, которыми ему приходится заниматься.
Мужчина средних лет просматривает листовку, потом сует ее Нату, будто обжегшись, и озирается.
— Я дам доллар, — шепчет он, — но я не могу подписаться. — Мужчина говорит с акцентом — не французским, не итальянским. Нат благодарит его и бросает доллар в копилку. Он и не думал, что столько людей не захотят подписаться, опасаясь преследований. Полиция схватит их, будет бить собачьим хлыстом по пяткам, прижигать гениталии электрическими щипцами для завивки; или, на худой конец, вскроет их письма.
Нат в этом сомневается; он даже думает, что полиции наплевать. Ничего такого тут не случится, по крайней мере сейчас. Может, потому он раньше ничем подобным не занимался. Слишком безопасно. Он клюнул бы на решающий выбор, опасность, риск для жизни; и пошел бы с беспечным смешком, блестя глазами, и от смерти его отделял бы один неверный шаг. А так он жарится на августовском солнцепеке, пристает к незнакомым людям, закуривает очередную сигарету, чтоб хоть как-то перебить выхлопные газы.
Когда он пришел в штаб-квартиру, на втором этаже, его приветствовали как блудного сына. Три женщины в мятых летних платьях выскочили из своих закутков, чтобы пожать ему руку; говорили, что его мать — просто чудо, столько энергии, он ею должен гордиться. Директор пригласил его в свой коричневатый кабинет, где на столе штабелями громоздились бумаги: письма, анкеты, старые газетные вырезки. Нат сказал, что мать подвернула ногу, и постарался объяснить, насколько это было возможно без перехода на грубость, что пришел один-единственный раз, на замену. Он решил не добавлять, что считает эту петицию одним большим анекдотом. Она адресована премьер-министру, который скорее всего пустит ее на бумажные самолетики. Почему бы и нет? Нат читал достаточно писем в редакцию, он знает, что большинство людей скорее согласятся, чтобы шести миллионам квебекцев, пакистанцев, профсоюзных деятелей и трансвеститов выдирали ногти на допросе, чем допустят, чтобы с воображаемого ими лакированно-театрального полицейского облупилась хоть чешуйка красной краски.
Может, директор и сам знает, что эта петиция — глупость. Он чему-то улыбался. Лыбился, как клоун-копилка, белые зубы хищно приоткрыты, мягкость обманчива. Щеки точно яблоки, а над ними проницательные глаза, и под их взглядом Нат заерзал. Они все вели себя так, будто Нат взаправду то, чем он изо всех сил пытался не стать: сын своей матери. Может, так и есть.
Но он не только это, не только. Он наотрез отказывается быть определенным. Он не замкнут, его несет поток времени, с ним еще многое может случиться. Под локтем у него сегодняшний выпуск «Глоб», который он собирается просмотреть, как только толпа кандидатов на вербовку поредеет. Вдруг в газете наконец окажутся какие-то новости. Частица души до сих пор чего-то ждет, на что-то надеется, жаждет вести или вестника; а сам он в это время сидит на посту и провозглашает другим людям весть, над которой сам же готов посмеяться.
В четыре должен прийти его сменщик, немецкий католик-богослов, как ему сказали, придет и схватит его за руку, пожимая так сердечно, будто Нат и впрямь родственная душа. Нат смущенно покинет пост и вольется в поток прохожих, тех, что стремятся домой, и тех, что бродят без цели; затеряется среди безразличных, среди фаталистов, посторонних, циников; тех, среди кого ему бы хотелось быть своим.
Пятница, 18 августа 1978 года
Леся
Леся, облаченная в лабораторный халат, спускается в подвал по лестнице, описывая спираль вокруг тотемного столба. Она сегодня не на работе, но халат все равно надела. Чтобы чувствовать, что она здесь по праву. Она и в самом деле здесь по праву.
Она помнит, как когда-то во время своих субботних экскурсий провожала глазами других людей, мужчин и женщин, но женщин — особенно, тех, что деловито шли по коридору и входили в двери с табличками «Посторонним вход воспрещен». Тогда она воспринимала их рабочие халаты как гербы, как национальные флаги, знаки особой избранности. Ей так хотелось получить доступ за эти двери; по ту сторону лежали тайны и даже чудеса. Теперь у нее есть ключи, она может пройти почти в любую дверь, она знает этот пестрый развал камней, эти обломки, эти пыльные связки неразобранных бумаг. Тайны — может быть, но никаких чудес. И все же она хотела бы работать только здесь. Когда-то это было самое важное в ее жизни, и сейчас в ее жизни пока что нет ничего важнее. Только здесь, и больше нигде, она хочет быть своей.
Она от этого не откажется. Засунув кулаки в карманы рабочего халата, она меряет шагами подвал, среди застекленных индейцев-манекенов в краденых ритуальных нарядах, в резных масках, радостных, испуганных. Она идет деловито, будто знает, куда; на самом деле она просто пытается успокоиться, перебрать весь Музей в голове, один знакомый зал за другим, как поминовение о здравии всех предметов. Кто знает, как скоро ей придется покинуть их навсегда?
Иногда она думает, что Музей — это хранилище знаний, прибежище ученых, дворец, построенный искателями истины, без кондиционеров, но все же дворец. В другое время Музей для нее — разбойничья пещера; кто-то ограбил прошлое и сложил добычу сюда. Целые куски времени лежат здесь, золотые, замороженные; она — один из хранителей, единственный хранитель, без нее все это сооружение растает, как медуза на горячем песке, и прошлого не станет. Она знает, что на самом деле все обстоит ровно наоборот — это она сама не может существовать без прошлого. Но все же ей надо держаться, убеждать себя в своей значимости. Она испугана, она цепляется за что попало. Если ничего другого не останется, она запрется в какой-нибудь витрине, закроет лицо волосатой маской, спрячется, ее никогда здесь не достанут.
Попросят ли ее уволиться? По собственному желанию. Она не знает. Беременный палеонтолог — это оксюморон. Ее работа — называть кости, а не производить плоть. Но у нее уже два раза не пришли месячные. Может быть, это, как говорится, от стресса. Она еще не ходила на анализы, не получила подтверждения, не думала, что делать дальше. Она будет незамужней матерью. Конечно, такое теперь часто бывает, но что скажет д-р Ван Флет, джентльмен старой школы, подчеркнуто живущий не в 1978 году?
А что сделает Нат, что будет делать она сама? Трудно поверить, что ее мелкий поступок имеет такие ощутимые последствия для других людей, пусть и немногих. Хотя все прошлое состоит из осадка таких поступков: миллионов, миллиардов поступков.
Она не привыкла быть чему-то причиной. На стенке у нее в кабинетике висит плакат с древом эволюции, которое, словно коралл, тянется ветвями к потолку: Рыбы, Двоякодышащие, Терапсиды, Текодонты, Архозавры, Птерозавры, Птицы, Млекопитающие, и Человек — крохотная точка. Леся — такая же точка, а в ней еще одна. Которая отщепится от нее в свой черед.
Или нет; Леся об этом уже думала. Она может сделать аборт, остановить время. Она знает, что теперь это намного проще. Она еще не говорила Нату, а может, и не надо говорить. Можно все оставить как было. Но она не хочет.
Она не знает, обрадуется он, или рассердится, или придет в отчаяние; возможно, если учесть его отношение к уже имеющимся детям, и то, и другое, и третье сразу. Но, как бы он ни отреагировал, Леся знает: ее окончательное решение не будет зависеть от него. Нат сместился из центра вселенной, пока на самую малость.
Она поднимается вверх по черной лестнице и идет по всему зданию через Европейские Костюмы, огибая выставку Китайской Крестьянской Живописи, которая ей не особенно интересна. Выходя из-за угла на площадку центральной лестницы, Леся этажом выше замечает плотную черную фигуру. Элизабет. Элизабет ее не видит. Она глядит через балюстраду, под купол. Леся почти ни разу не видела Элизабет вот так — неведомо для той, украдкой. Ей кажется, что она видит Элизабет последний раз, что та скоро умрет. Леся к этому не привыкла; она всегда думала, что Элизабет вечна, будто икона. Но вот Элизабет стоит одна, без никого, она будто меньше ростом, усталая, обыкновенная; смертная. Линии лица и тела устремлены книзу. Хотя Леся знает, что ее беременность Элизабет ни капли не обрадует, даже более того, возможно, Элизабет попытается затянуть развод насколько получится, чтобы доказать — что доказать? Что она — первая жена? — Леся уже не помнит, почему так боялась Элизабет.