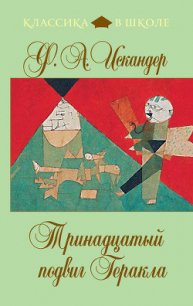Дядя Сандро и раб Хазарат - Искандер Фазиль Абдулович (первая книга TXT) 📗
Тигран-джан, ты мог защитить великий город, но надо было сначала вигнать всех гётферанов-греков, потому что они оказались предателями. Зачем грекам армяне? И они ночью по-шайтански открыли воротам, и римские солдаты все сожгли, и от города остался один пиль и пепель.
А пока они окружали его, что сделал Тигран? Это даже стидно сказать, что он сделал. Он послал отряд, который прорвался в город, но вивиз что? Армянский народ, да? Нет! Армянских женщин и детей? Да? Нет! Вивиз свой гарем, своих пилядей, вот что вивиз! Это даже стидно для великого царя!
О, Тигран, зачем ты построил Тигранакерт, а если построил, зачем дал его на сжигание римским гётфе-ранам?! Все пиль и пепель!
…Пока он излагал нам историю гибели Тигран-акерта, к нему подошел клиент и хотел попросить кофе, но Хачик движением руки остановил его, и тот, удивленно прислушиваясь, замер за спиной Акопа-ага.
Сейчас проси! сказал Хачик, когда Акоп-ага замолк, скорбно глядя в непомерную даль, где мирно расцветал великий Тигранакерт с фонтанами большими, как деревья, с оленями застенчивыми, как девушки, и с греками, затаившимися внутри города, как внутри троянского коня.
Два кофе можно? спросил человек, теперь уже не очень уверенный, что обращается по адресу.
Можно, сказал Акоп-ага, вставая и кладя на поднос пустые чашки, теперь все можно.
Немного поговорив о забавных чудачествах Акопа-ага, мы вернулись к рассказу дяди Сандро о Хазарате. Версия дяди Сандро о причине, по которой Хазарат отказался уходить с ним, была оспорена Кемалом.
Я думаю, сказал Кемал, отхлебывая кофе и поглядывая на дядю Сандро темными глазами, твой Хазарат за двадцать лет настолько привык к своему сараю, что просто боялся открытого пространства, хотя, конечно, и мечтал отомстить Адамыру. Вообще природа страха бывает удивительна и необъяснима.
Помню, в сорок четвертом году наш аэродром базировался в Восточной Пруссии. Однажды я со своим другом Алешей Старостиным пошел прогуляться подальше от нашего поселка. Мы с ним всю войну дружили. Это был великолепный летчик и прекрасный товарищ. Мы с ним на книгах сошлись. Мы были самые читающие летчики в полку, хотя, конечно, и выпить любили, и девушек не пропускали. Но сошлись мы на книгах, а в ту осень увлекались стихами Есенина, и у нас у обоих блокноты были исписаны его стихами.
И вот, значит, погода прекрасная, мы гуляем и проходим через какие-то немецкие хуторки. Дома красивые, но людей нет, почти все сбежали. На одном хуторке мы остановились возле такого аккуратненького двухэтажного домика, потому что около него росла рябина вся в красных кистях.
И вот, как сейчас вижу его, Алеша с хрустом нагибает эту рябинку не выдержала его русская душа, и сам он весь хрустящий от ремней и молодости, такой он перед моими глазами, обламывает две ветки и отпускает деревцо.
Одну ветку протягивает мне, и мы стоим с этими ветками, поклевываем рябину и рассуждаем о том, где же располагались батраки, если кругом помещичьи дома.
И вдруг открывается дверь в этом доме, и оттуда выходит старик и зовет нас:
Русс, заходить, русс, заходить!
Вообще-то нас предупреждали, чтобы мы насчет партизан были начеку, но мы ни хрена не верили в немецких партизан. Да и откуда взяться партизанам в стране, где каждое дерево ухожено, как невеста?
Пошли?
Пошли.
И вот вводит нас старик в этот дом, мы поднимаемся наверх и входим в комнату. Смотрю, в комнате две женщины одна совсем девушка лет восемнадцати, а другая явно юнгфрау лет двадцати пяти. Я сразу глаз положил на ту, которая постарше, она мне понравилась. Но для порядка говорю своему дружку, я же его знаю как облупленного:
Выбирай, какая тебе нравится?
Молоденькая, чур, моя! говорит.
Идет!
Вижу, и они обрадовались нам, оживились.
Кофе, кофе, говорит юнгфрау.
Я, я, говорю. По-немецки значит «да».
И вот она нам приготовила кофе, надо сказать, кофе был паршивейший, вроде из дубовых опилок сделанный. Но что нам кофе? Молодые, очаровательные девушки, вижу, на все готовы. И старик, конечно, не против. Они боялись наших, и заручиться дружбой двух офицеров значило обезопасить себя от всех остальных.
Одним словом, посидели так, и я говорю:
Абенд. Консервы. Шнапс. Брод. Шоколад.
О! загорелись глаза у обеих. Данке, данке. Они, конечно, поголадывали. И вот мы вечером приходим, приносим с собой спирт, консервы, колбасу, хлеб, шоколад. Сидим, ужинаем, пьем. А старик, оказывается, в первую мировую войну был у нас в плену и немного говорит по-русски. Но лучше бы он совсем не говорил. Пугается, хочет все объяснить, а на хрена нам его объяснения? И все доказывает, что он антифашист. Они теперь все антифашистами сделались, так что непонятно, с кем мы воевали столько времени.
То ли дело эти молодые немочки, все с полуслова понимают… Мы с Алешей выпили как следует, наши барышни тоже подвыпили, и мы пошли танцевать под патефон. На каждой пластинке написано «Нур фюр дойч» значит, только для немцев. И я, когда ставлю пластинку, нарочно спрашиваю:
Нур фюр дойч?
Наин! Наин! смеются обе.
Ну, раз найн пошли танцевать. Наконец старик опьянел и уже стал молоть такую околесицу, что его и племянницы перестали понимать. Он был их дядей. А нам он еще раньше надоел. Так что мы обрадовались, когда моя юнгфрау повела его вниз укладывать спать.
Теперь мы одни. Попиваем, танцуем, одним словом, кейфуем. Ну, я так слегка прижимаю мою немочку и спрашиваю:
Нур фюр дойч?
Шельма, шельма, смеется она, русиш шельма!
Найн, говорю, кавказиш шельма.
О, шёнсте Кауказ! говорит.
Мы с Алешей остались на ночь в двух верхних комнатах. Так начался наш роман, который длился около двух месяцев, с перерывами, конечно, на боевые вылеты. Пару раз ребята из аэродромной службы сунулись было к нам, но, быстро оценив обстановку, ретировались. Свои ребята, сразу все усекли.
И вот мы приходим однажды к нашим девушкам. Мою звали Катрин, я ее Катей называл, а молоденькую звали Гретой…
Тут дядя Сандро перебил Кемал а.
Ты совсем русским стал, сказал он, зачем ты называешь имя своей женщины при мне?
А что? спросил Кемал.
Вот до чего ты глупый сказал дядя Сандро, ты же знаешь, что это имя моей жены. Надо было тебе изменить его, раз уж ты решил рассказывать при мне.
Ну, ладно, захохотал Кемал, я ее больше не буду называть.
Дурачок, сказал дядя Сандро, раз уж назвал, теперь некуда деться, рассказывай дальше.
Так вот, продолжал Кемал, поглядывая на дядю Сандро все еще смеющимися глазами, однажды мы, как обычно, заночевали у наших подружек. Часа в три ночи просыпаюсь и выхожу из дома. Захотелось покурить на воздухе.
Вдруг слышу, подкатывает мотоцикл, останавливается, и двое, я их различаю по шагам, подымаются в дом.
Вот, черт, думаю, попались, как идиоты! У меня пистолет под подушкой, а сам я стою за домом в трусах, майке и тапках. Трудно представить более глупую ситуацию. Да еще слегка под балдой. На ночь спирту тяпнули, конечно. Вот, думаю, смеялись про себя, когда нам говорили про бдительность и партизан, и на тебе! Напоролись! Неужели наши подружки оказались предательницами? Нет, не могу поверить! И мне нравится моя… как там ее ни называй…
Называй, называй, чего уж прятаться! вставил дядя Сандро.
Да, продолжал Кемал, и мне нравится моя Катя, и я, чувствую, ей нравлюсь, а эти вообще без ума друг от друга. Значит, нас этот антифашист предал? И товарища бросить не могу, и буквально голым ха! ха! не хочется попадаться немцам в руки.
Ну, ладно, думаю, была не была! Высунулся на улицу. Никого. Стоит немецкий мотоцикл с коляской. Подошел к двери, слышу, раздаются голоса, но ничего понять невозможно.
Единственно, что я понял, голоса доносятся с той стороны, где спит мой товарищ. И я решил подняться и проскочить в свою комнату, пока они у Алексея. Главное добраться до пистолета. Но, конечно, я понимал: если нас девушки предали нам хана, потому что в этом случае моя сразу же должна была отдать им пистолет. Но делать нечего, тихо открываю дверь и быстро поднимаюсь по лестнице.