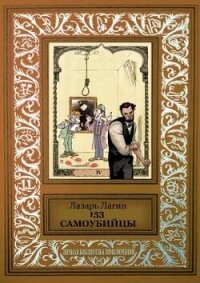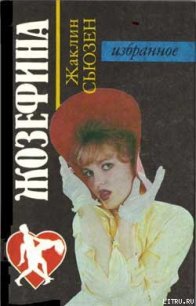Девственницы-самоубийцы - Евгенидис Джеффри (список книг TXT, FB2) 📗
Мистер Лисбон метнулся вверх по лестнице. Миссис Лисбон, прибежав наверх, встала там, держась за перила. В пролете нам был виден ее силуэт, мощные ляжки, гигантская покатая спина, отяжелевшая от переполнявшего ее ужаса большая голова с отразившими свет, устремленными вдаль очками на носу. Миссис Лисбон заняла большую часть лестничной площадки, и мы не решались обойти ее, пока это не сделали сестры Лисбон. Тогда уж и мы просочились вперед. Сквозь боковое окно нам был виден стоявший в кустах мистер Лисбон. Высыпав на крыльцо, мы увидели, что он держит Сесилию: одной рукой за шею, другой под колени. Он пытался приподнять дочь и снять с пики, кончик которой пробил ей левую грудь, прошел сквозь ее загадочное сердце, скользнул меж двух позвонков, не раздробив при этом обоих, и вышел со спины, разорвав платье и вновь оказавшись на свободе. Пика так быстро прошла через тело девочки, что на ней не осталось и следа крови. Она была абсолютно чистой, и Сесилия, казалось, просто балансирует на шесте, подобно гимнастке. Колышущееся подвенечное платье по моде незапамятных времен усиливало этот слегка цирковой эффект. Мистер Лисбон предпринимал все новые попытки снять Сесилию с пики как можно мягче и нежнее, но даже в полном своем невежестве мы уже осознали всю их бесплодность. Несмотря на то, что глаза Сесилии были широко распахнуты, а рот открывался и закрывался, словно у рыбы на крючке, то была лишь агония нервных окончаний; ей все-таки удалось, со второй попытки, вырвать себя из этого мира.
2
Мы не понимали, зачем Сесилии было убивать себя в первый раз, и поняли даже еще меньше, когда это произошло снова. Ее дневник, который полицейские проштудировали в ходе рутинного следствия, не подтвердил предположений о безответной любви. В этом маленьком блокноте из рисовой бумаги, разукрашенном цветными фломастерами на манер Часослова или средневековой Библии, имя Доминика Палаццоло всплыло только однажды. Миниатюрные картинки усыпали страницы. Ангелы с пузырями от жевательной резинки на устах устремлялись вниз с верхних полей или чистили перышки между многословными параграфами. Златоволосые девы роняли ярко-голубые слезы в переплет. Киты цвета незрелого винограда разбрызгивали яркую кровь вокруг газетной вырезки (вклеенной в дневник), перечислявшей виды животных, недавно внесенных в списки вымирающих. Шестеро птенчиков пищали из разбитых скорлупок по соседству с записью, сделанной на Пасху. Сесилия щедро заполняла страницы буйством красок и замысловатыми орнаментами, лестницами на небеса и полосатыми трилистниками, но пассаж о Доминике звучал так: «Сегодня Палаццоло спрыгнул с крыши ради этой богатой сучки, Портер. Есть ли предел глупости?»
Двое прибывших санитаров оказались теми же, что и в прошлый раз, хотя узнать их мы смогли далеко не сразу. Из страха и вежливости мы перешли через улицу и прислонились к капоту «олд-смобиля» мистера Ларсона. Уходя, никто из нас не промолвил ни слова, и только Валентин Стамаровски крикнул через газон: «Спасибо за вечеринку, мистер и миссис Лисбон!» Мистер Лис-бон все еще стоял в кустах, скрытый ими по пояс, и спина его заметно содрогалась — то ли от стараний высвободить Сесилию, то ли от плача. На крыльце миссис Лисбон развернула дочерей лицами к дому. Поливальная система, настроенная на включение в пятнадцать минут девятого, воспряла к жизни как раз в тот момент, когда в конце квартала появился фургон «скорой помощи» с выключенными мигалкой и сиреной, — санитары особенно не торопились, словно догадываясь, что это уже бесполезно. Первым наружу выбрался худощавый санитар с усами, а за ним и толстяк. Начали они с того, что, еще не успев осмотреть пострадавшую, вытащили носилки; как нам потом объяснили врачи-профессионалы, это было грубым нарушением предписанной процедуры. Мы недоумевали, кто мог позвать на помощь и откуда санитарам было знать, что сегодня им предстояло выступить в роли служителей морга, не более? Том Фахим уверял, будто Тереза заходила в дом и звонила, но все остальные запомнили, что четыре сестры Лисбон неподвижно стояли на крыльце и не трогались с места вплоть до прибытия неотложки. Никто на нашей улице еще не был в курсе событий. Выстроившиеся в ряд одинаковые лужайки квартала пустовали. Кто-то жарил мясо, но не было видно где. Из-за дома Джо Ларсона до нас доносились неспешные щелчки величайших игроков в бадминтон, непринужденно посылавших друг другу волан.
Санитары отодвинули мистера Лисбона в сторонку, чтобы подойти к Сесилии вплотную.
Пульса обнаружить им не удалось, но они все равно решили попробовать спасти ее. Толстый принялся пилить пику, тогда как худой изготовился подхватить девочку на руки: выдернуть шипастый стержень было опаснее, чем просто оставить его в теле. Когда пика поддалась и переломилась, худого санитара качнуло назад под освобожденным весом девочки. Он, впрочем, быстро восстановил равновесие, развернулся на пятках и плавно опустил Сесилию на носилки. Когда санитары несли ее к машине, отпиленный кусок пики приподнимал простыню на манер шатра.
Когда фургон укатил прочь, было уже не меньше девяти. С крыши дома Чейза Бьюэлла, куда, едва успев посрывать с себя праздничные шмотки, мы забрались, чтобы следить за дальнейшим развитием событий, нам ясно была видна над сбившимися в кучу кронами тянувшихся к небесам деревьев четкая демаркационная линия меж покрытой зеленью областью пригорода и городскими окраинами. Солнце падало к горизонту в дымке далеких заводов, и россыпь оконных стекол в льнущих к ним трущобах отразила неяркое свечение отравленного смогом заката. Звуки, которые обыкновенно не долетали сюда, настигли нас на крыше, и, присев на корточки на просмоленных черепицах кровли, подперев подбородки ладонями, мы различили слабое гудение неразборчивой, пущенной задом наперед записи городской жизни, ее вопли и крики, лай цепного пса, гудки автомобилей, голоса девчонок, называвших ряды цифр в ходе игры с неясными правилами, — звуки обедневшего города, бывать в котором нам не приходилось, перемешанные и приглушенные, лишенные смысла, издалека принесенные ветром. Потом темнота. Искорки далеких фар. Гораздо ближе — вспыхнувшие в окнах желтоватые огни, осветившие семьи, усевшиеся перед телевизорами. Один за другим, мы разошлись по домам.
*
В нашем квартале еще никого не хоронили — по крайней мере, на нашей памяти. Все смерти пришлись в основном на Вторую мировую, когда наши отцы были невероятно тощими юнцами с черно-белых фотографий: папы на спрятанных в джунглях взлетно-посадочных полосах, прыщеватые папы с татуировками, папы на фоне пришпиленных к стенке скабрезных плакатов. Эти отцы писали любовные письма девушкам, которым только предстояло стать нашими мамами, а неприкосновенный запас продовольствия, одиночество и буйство гормонов в пропитанном малярией воздухе вдохновляли их на романтические вирши, забытые сразу же по прибытии домой. Наши отцы относились к «людям среднего возраста», наевшим брюшко и потерявшим волосы на голенях за годы ношения брюк, но еще и близко не подступившим к смерти. Их собственные родители, помнившие родные языки и, подобно нечистоплотным скупцам, обитавшие в подвальных квартирах, теперь пользовались наилучшим медицинским обслуживанием из всех возможных и грозили дожить до начала будущего столетия. Ни у кого из нас еще не умирал дедушка или бабушка, никто не терял родителей; правда, умерло несколько собак: сначала Пышка, коротконогая гончая Тома Берка, подавившаяся жевательной резинкой «Базука Джо», а затем, уже в то лето, ушло и существо, по собачьим меркам еще пребывавшее в щенячьем возрасте, — Сесилия Лисбон.
На день ее смерти забастовка кладбищенских работников разменяла уже шестую неделю. В нашем кругу никто даже не задумывался ни о самой забастовке, ни о причинах недовольства рабочих, поскольку большинство из нас ни разу не бывали на кладбище. Иногда из городского гетто до нас долетали звуки выстрелов, но наши отцы всякий раз настаивали, что это просто хлопки автомобилей с неисправными двигателями. Таким образом, когда газеты объявили об отмене процедуры похорон в городе, мы сочли невероятным, чтобы нас хоть как-то задело это обстоятельство. Подобно нам, мистер и миссис Лисбон, едва одолевшие планку сорокалетия, но уже с выводком юных дочерей, уделяли забастовке ничтожно ма-^ ло внимания — до тех пор, пока их дочери не принялись убивать себя.