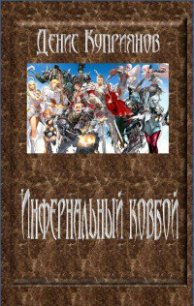Человек, который отказался от имени - Гаррисон Джим (библиотека книг .TXT) 📗
– Не знаю, как вы, а я совершенно задыхаюсь, и ожоги чешутся.
На ней были очень тонкие светло-бежевые трусики и лифчик. Ока обгорела, но не сильно – над лифчиком, над и под трусами. Он протянул руку и мокрым пальцем дотронулся до соска под тканью. Она повернулась кругом и подняла руки:
– Спина не так сгорела.
Он вытер руки о фартук и прижал ладони к ее пояснице. Она подалась назад, слегка запнувшись и сандалиях на деревянной подошве. Он посмотрел вниз на свои руки и на ее оттопыренные ягодицы. Она тронула sa спиной его руки и спустила до колен трусы.
– Ну, начинайте. Я уже час об этом думаю.
Нордстром, так сказать, начал. По завершении он отвалился на пол в брюках, спущенных на щиколотки, под фартуком, образовавшим маленький шатер над его членом. Она засмеялась, и он засмеялся. Она зажгла для него сигарету, и он курил, не поднимаясь с пола. Она вышла из трусиков и сняла лифчик. Достала из холодильника бутылку белого вина и подала ему вместе со штопором. Бросив посуду, они залезли в бассейн с выключенным освещением и смотрели, как приближается гроза над огнями Марблхеда. Потом опять соединились – на этот раз он сидел под ней в плетеном кресле. Дождь загнал их в дом, и они сидели голые на кушетке, чувствуя, как постепенно холодает, и наблюдая за молниями, грохочущими над океаном. Выкурили еще один косяк и потанцевали. Потом уснули на кушетке и не услышали смеющихся голосов, выключивших свет и проигрыватель.
Через неделю кончилось лето. Нордстром сварил грустный буйабес на двадцатерых, и на другой день все исчезли. Еще неделя в Бостоне, и Соня вернулась в колледж, а Нордстром – на работу. Вечерами он был осязаемо одинок и начал танцевать в одиночку под оставленные пластинки, с той же горько-сладкой болью в груди. Через месяц с небольшим, в середине октября, поздно ночью ему позвонила мать и сказала: "Папа умер".
На заре, первым же рейсом, на какой удалось попасть, Нордстром вылетел в Чикаго. Он улыбнулся, вспомнив то утро, когда привез девушку в аэропорт и столкнулся там со старым деловым партнером из Лос-Анджелеса. Нордстром несколько опешил, когда коллега сказал: "Сожалею о твоем разводе", а когда представил ему девушку как подругу дочери, видно было, что тот подумал другое. Но после этой встречи настроение у него поднялось и не покидало его всю дорогу обратно, до Марблхеда, откуда двигался к аэропорту густой поток машин: он довольно чудесно переспал с девушкой, во-первых, а во-вторых, от слова "развод" и мысли о нем ком в животе не встал и ни тоска, ни раздражительность не напали.
В Милуоки предстояло пятичасовое ожидание рейса "Норт-сентрал" на Райнлендер, поэтому он арендовал свободный реактивный "Лир", на которых любил летать, когда работал в нефтяном бизнесе, – это было ближайшее подобие полета на истребителе в домашних условиях. Известие о смерти отца воспринято было пока что только умом, и во время трудной, ухабистой посадки он подумал, что может отправиться вслед за отцом. Второй пилот заранее радировал на аэродром, и Нордстрома встречали мать и родственник, землистый парикмахер с циничным складом ума. Были слезные объятия, потом парикмахер не удержался и, глядя на "Лир", съязвил: "Летаешь с комфортом". Нордстром не ответил. В прошлые наезды, когда он пытался скрыть свой успех, все его старые знакомые были страшно разочарованы. Те, кто остался дома, не хотели, чтобы Нордстром оказался одним из них, – он был фокусом их экономических фантазий, и всякая попытка отрицания воспринималась неодобрительно. Шагая с матерью к машине под холодным дождиком, он вспомнил, как родители приехали к нему в Лос-Анджелес. Дом Нордстрома они сочли чем-то вроде "особняка" – так его и называли, – а в предпоследний день мать робко попросила его показать, где живет Кэри Грант. Нордстром не знал колонии киношников и не интересовался ею, поэтому отвез мать за несколько кварталов и показал на какой-то внушительный дом. Он любил кино и романы, но знаменитости – актеры, актрисы, писатели – любопытства у него не вызывали. Отец всегда хотел, чтобы он стал лесничим, и Нордстрому это занятие все еще представлялось благородным. Гостя в Калифорнии, отец удил рыбу с пирса или садился в Санта-Монике на судно, вывозившее людей на рыбалку. Потом он съедал громадное количество песчаной камбалы, останавливаясь только на пороге серьезного несварения, и рассказывал о своем первом посещении Лос-Анджелеса в 1930 году. Он родился в семье бедных иммигрантов-норвежцев, живших в Чикаго, и, когда разразилась Депрессия, четыре года мотался по стране, перебиваясь случайными заработками.
После коротких изъявлений вежливости в материнском доме, набитом друзьями и родственниками, Нордстром отправился в похоронное бюро и увидел самое смерть. Он стоял у открытого гроба – остальные держались поодаль, чтобы единственный сын мог без помех дать выход горю. Он поцеловал отца в холодный лоб, и его затрясло, слезы хлынули потоком. Он был сокрушен потерей и немыслимым фактом смерти. Он снова был мальчиком, и это не укладывалось в сознании; он снова и снова шептал "папа", пока в нем не осталось больше слез, и тогда он вышел из похоронного бюро и пошел по улице на край города и дальше, мимо озера, обставленного коттеджами, на лесную дорогу, по которой возили древесину. Он прошел по ней километра полтора, небо расчистилось наконец, выглянуло солнце, и он снял плащ. Вдруг наступило в лесу бабье лето: яркие густо-желтые и красные кроны уходили в дымку к тенистым холмам с белыми пятнами берез и зелеными – сосен. Нордстром шел, пока не стер ноги; тогда он постелил плащ на пень и сел. Он думал об отце и даже завидовал тому, что во время Депрессии отец разъезжал по стране, "смотрел, где, что и как". Отец начинал с нуля, и все, что лучше голодухи, было для него прекрасно. Он заработал деньги потому, что был хорошим работником, имел мозги и не мог не заработать. Это был просто другой мир, думал Нордстром. Собственная жизнь вдруг показалась ему отвратительно расчисленной. Кого он знает, что он знает, и кого он любит? Сидя на пне, придавленный отцовской смертью и зрелищем бренности, запечатленной в предсмертной пестроте ярких крон, он подумал: жизнь – это только то, что ты делаешь каждый день. Он будто видел, как время мерцает и поднимается над ним сквозь листву, и опускается к его ногам, и проникает к нему в нутро. Ничто не похоже ни на что другое, и даже он сам на себя, все непрерывно меняется. Он понимал, что не может воспринять изменения, потому что тоже меняется, вместе со всем остальным. Нет ни одной неподвижной точки. Мгновение он парил над собой и насмешливо смотрел на безупречно одетого господина, сидящего на пне, на солнечной прогалине в лесу. Он встал и прижался к молодому топольку, качающемуся взад-вперед под музыку, которая была ему непонятна. Он окинул взглядом прогалину и сообразил, что заблудился, но его это не огорчило – правильной дороги он никогда не знал.
Он пошел в сторону заходящего солнца, помня, что в октябре оно садится на юго-западе. Дошел до незнакомого пруда и вспугнул стаю синекрылых чирков. Обошел пруд по зарослям ежевики, несколько раз зацепившись костюмом. Прошел вдоль ручья, измазавшись до колен, когда оступился в родник, и наконец поднялся на возвышенное место. Тут он сбросил плащ и медленно влез на сосну, чтобы оглядеть окрестность. Руки почернели, сделались липкими от смолы, зато стало видно километров на пятнадцать вокруг: он увидел белый шпиль лютеранской церкви, где через два дня будут отпевать отца, увидел моторную лодку на озере, силосную башню без сарая – сарай сгорел, когда он заканчивал школу. Обняв одной рукой для безопасности сук, он закурил и услышал ружейный выстрел – вдалеке кто-то охотился на куропаток. Пролетела ворона, была удивлена его присутствием и, каркая, поспешила дальше – предупредить товарок. На дереве человек в синем костюме. Нордстром посмотрел на костюм – костюм был испорчен, и это показалось ему забавным. Он вынул золотые карманные часы и направил девятью часами на шпиль, помня, что в направлении двенадцати должна пролегать дорога, – на случай, если ему опять понадобится влезть на дерево и определиться на местности. Отец любил лазить на деревья и придумывал для этого нарочито неубедительные поводы. Впервые за двадцать пять лет взобравшись на дерево, Нордстром подумал, что у отца это было связано со склонностью выяснять "где, что и как". Когда Соня была девочкой и они приехали на летние каникулы в Висконсин, она захватила маску для ныряния. Плавать отец не любил, масками раньше не интересовался, но тут стал возить Соню по озеру на моторке и нырять в местах, где любил рыбачить. За обедом рассказывал, что видел ушастого окуня "размером с чертову сковородку" и щуку "с твою руку длиной".