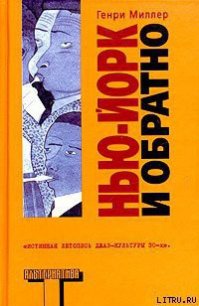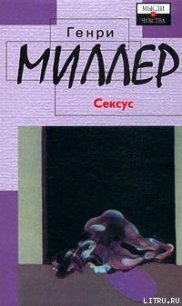Тропик Козерога - Миллер Генри Валентайн (хороший книги онлайн бесплатно txt) 📗
Так было в мечтах. В действительности же в присутствии моих дорогих кровных родственников я был свободен как птица и юрок как стрелка компаса. Когда мне задавали вопрос, я давал не менее пяти ответов, один лучше другого; когда просили сыграть вальс, я исполнял двубортную сонату для левой руки; когда мне предлагали еще одну куриную ножку, я опустошал все блюдо и впридачу весь гарнир; когда меня просили пойти погулять на улице, я, играючи, в припадке особого энтузиазма чуть не раскраивал череп двоюродного братца острой жестянкой; когда грозили поркой, я говорил: не возражаю! Когда меня за особые успехи в школе гладили по головке, я презрительно сплевывал на пол, как бы демонстрируя, что еще есть чему поучиться. Я делал все, о чем меня ни просили, и что-то еще дополнительно. Когда меня умоляли успокоиться и помолчать, я становился спокоен как скала: делал вид, что не слышу, когда ко мне обращались, не отвечал на прикосновения, не кричал, когда щипали, не двигался с места, когда пытались столкнуть. Если меня журили за упрямство, я становился податливым как воск и гибким как резина. Когда хотели, чтобы я выбился из сил и не так всем досаждал, никакой работой я не гнушался и все проделывал очень старательно, так что в конце концов валился, словно куль муки. Когда от меня требовали благоразумия, я становился сверхблагоразумным, и это сводило моих родичей с ума. Когда от меня требовали беспрекословного подчинения, я все исполнял буквально, что вызывало бесконечную путаницу. А все потому, что жизнь молекулы брат-и-сестра была невыносима из-за разницы в наших атомных массах. Если сестра не росла, я рос как гриб; если она не обладала индивидуальностью, я был исполином; если она не знала, что такое быть злой, я злобился по пустякам; если она ни от кого ничего не требовала, я требовал все; если она вызывала насмешки, я внушал страх и уважение; если она терпела муки, не отведя руки, я мстил и друзьям и недругам; если она была беспомощна, я делался всемогущим, стремление все преувеличить, которым я страдал, явилось результатом усилий, направленных на то, чтобы удалить, так сказать, пятнышко ржавчины, появившееся на нашем семейном коньке. Это пятнышко ржавчины под креплением сделало меня чемпионом среди конькобежцев. Оно заставляло меня бежать так быстро и неистово, что даже когда лед уже растаял, я все равно бежал, бежал по грязи, по асфальту, по ручьям и рекам, по бахчам, экономическим теориям и тому подобному. Я бы и сквозь ад прокатился, такой уж я шустрый.
Однако все это катание было ни к чему: меня звал в свой ковчег панамериканский Ной. Каждый раз, как я прекращал скольжение, случался катаклизм: земля, расступаясь, поглощала меня. Я был братом каждому человеку и в то же время изменником самому себе. Я принес поразительные жертвы только для того, чтобы убедиться, что все это зря. Какого черта доказывать, что ты можешь оправдать чьи-то ожидания, если тебе этого вовсе не хочется? Всякий раз, уже согласившись выполнить чьи-то требования, сталкиваешься с одной и той же проблемой: как остаться самим собой? А с первым же шагом, сделанным в этом направлении, понимаешь, что здесь нет ни минусов, ни плюсов. Тогда снимаешь коньки и начинаешь плыть, уже не испытывая страданий, поскольку ничто не угрожает твоей безопасности. Совсем не хочется никому помогать, зачем лишать людей права самим заработать себе привилегии? Жизнь простирается в потрясающей безграничности от эпизода к эпизоду. Нет ничего реальнее твоих собственных представлений. Каким ты себе представляешь космос, таков он и есть и не может быть никаким иным, покуда ты — это ты, и я — это я. Ты живешь плодами своей деятельности, а деятельность — это жатва мысли. Мысль и действие — единое целое, ты в нем плывешь, из него созданный, и оно — это все, что ты от него хочешь, ни больше ни меньше. Каждый взмах руки стоит вечности. Нагревательная и охлаждающая системы стали единой системой, а Рак отделен от Козерога лишь воображаемой линией. Тебе не надо ни впадать в восторг, ни отдаваться сильной печали; не надо ни молить о дожде, ни плясать джигу. Ты живешь, словно счастливая скала посреди океана: неподвижный, тогда как все вокруг бурлит и клокочет. Ты неподвижен в такой действительности, которая утверждает: нет ничего неподвижного, даже самая счастливая и могучая скала в один прекрасный день окончательно растворится, соединившись с океаном, из которого некогда родилась.
Это — жизнь в музыке, которую я постиг, прокатившись первый раз, как помешанный, по вестибюлям и коридорам, ведущим от внешнего к внутреннему. И к ней меня приблизила не борьба, не отчаянная активность, не жизнь в самой гуще человечества. Ведь все это было только хаотическим движением в замкнутом круге, граница которого хотя и расширялась, но не пересекалась с областью, о которой я веду речь. Круг судьбы мог быть разорван в любой момент, поскольку каждой точкой границы соприкасался с реальным миром, и требовалась лишь искра вдохновения, чтобы случилось чудо: конькобежец превратился в пловца, а пловец — в скалу. Скала — это только образ действия, останавливающий напрасное вращение круга и приводящий к полному самосознанию. А полное самосознание — это поистине неисчерпаемый океан, отдающийся солнцу и луне и вобравший в себя луну и солнце. Все, что есть, родилось из этого безграничного океана света, даже ночь.
Иногда, в безустанном верчении колеса, я приходил к смутному осознанию необходимости совершить прыжок. Вырваться из заведенного — вот мысль, делающая свободным. Стать чем-то большим, стать другим, мне — самому выдающемуся помешанному на земле! Быть просто человеком на этой планете наскучило. Наскучило побеждать, даже зло. Изучать добро — удивительно, потому что это бодрит, живит, обновляет. Но просто быть — еще удивительнее, потому что это не имеет конца и требует демонстраций. Быть — это музыка, это профанация тишины в интересах тишины, это вне добра и зла. Музыка — это проявление деятельности без действия. Это — акт чистого творчества, когда плывешь сам по себе. Музыка ни подгоняет, ни защищает, ни ищет, ни объясняет. Музыка — это бесшумный звук, создаваемый пловцом в океане самосознания. Это награда, которую каждый дает себе сам. Это дар божества, а божеством становятся, перестав думать о Боге. Это — авгур божества, а божеством станет каждый в особый час, когда все, что есть, будет за пределами воображаемого.
КОДА
Не так давно я еще гулял по улицам Нью-Йорка. {147} Добрый старый Бродвей. Была ночь, и небо было по-восточному синим, как расписной потолок ресторана «Пагода» рю де Бабилон. У меня вздрогнуло в штанах. Это произошло как раз на том месте, где мы впервые встретились. Я постоял там, глядя на красные фонари. Музыка звучала как всегда: легко, пряно, чарующе. Мне было одиноко, хотя вокруг — миллионы людей. Я стоял там и не мог думать о тебе, я думал о книге, которую сейчас пишу, книга стала Для меня важнее, чем ты, важнее, чем все, что случилось с нами. Будет ли она правдой, только правдой и ничем, кроме правды? Да поможет мне Бог. Снова смешавшись с толпой, я мучился этим вопросом. Уже несколько лет пытаюсь поведать эту историю, а вопрос о правде все время довлеет как кошмар. Время от времени я рассказывал знакомым нашу жизнь во всех подробностях и всегда говорил правду. Но правда тоже бывает ложью. Одной правды недостаточно. Правда — это только сердцевина неисчерпаемого единства.
Помню, когда мы расстались в первый раз, мысль о единстве захватила меня. Покидая меня, она сделала вид, а может, действительно верила, что это необходимо для нашего благополучия. В душе я знал: таким образом она пытается освободиться от меня, но я был слишком несмел, чтобы признаться себе в этом. Однако, когда я понял, что она может жить без меня хотя бы некоторое время, правда, которую я отказывался признать, начала беспокоить меня все сильней. Такой боли я никогда не испытывал прежде, но эта боль врачевала. Когда я полностью выдохся, когда одиночество дошло до того, что уже не могло ранить больней, меня осенило: а ведь эта невыносимая правда должна быть заключена во что-то более грандиозное, чем рамки личного горя, а иначе не жить. Я почувствовал, как незаметно произошел переход в другую область, более упругого и эластичного свойства, которую не разрушит даже самая страшная правда. Я засел за письмо к ней, информирующее о том, как я, страшась мысли ее потерять, решил написать книгу о ней, книгу, которая сделает ее бессмертной. Я сказал: это будет книга, не виданная прежде. Я писал и писал в неком экстазе, а потом вдруг отложил перо и спросил себя: почему мне так хорошо?