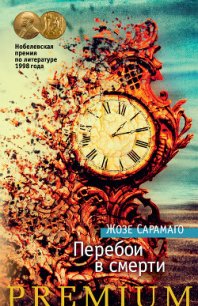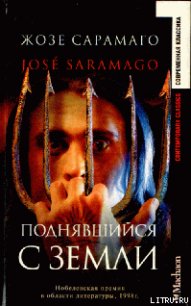Евангелие от Иисуса - Сарамаго Жозе (книга жизни TXT) 📗
Иисус вставил уключины и сказал: Прощайте, мне пора домой, а вы ступайте своей дорогой: ты — вплавь, а ты, раз появился откуда ни возьмись, возьми себя в, никуда. Ни Бог, ни Дьявол не шевельнулись, и тогда Иисус насмешливо добавил: А-а, вам угодно, чтобы я вас доставил к берегу, ну что же, охотно: свезу, пусть все наконец увидят Бога с Дьяволом во плоти, пусть посмотрят, как они схожи и как отлично понимают друг друга. Он полуобернулся и показал на берег, откуда приплыл, а потом несколькими сильными и размашистыми ударами весел ввел лодку в пелену тумана, столь густую и плотную, что тотчас потерял из виду Бога и даже смутного силуэта Дьявола различить не мог. Ему стало весело, он испытывал какой-то необычный подъем и прилив сил и, хотя не видел нос лодки, чувствовал, как при каждом гребке приподнимается он, будто голова карьером несущегося скакуна, который хочет, да не может освободиться от грузного туловища и, смиряясь, понимает, что взлететь оно ему не даст и придется влачить его за собой до конца. Иисус греб без устали: должно быть, уже близок берег, любопытно, как поведут себя люди, когда он им скажет: Вон тот, с бородой, — Бог, а второй — Дьявол. Глянув через плечо, он заметил просвет в тумане и объявил: Вот и приплыли — и еще усердней заработал веслами, ожидая, что вот-вот лодка мягко ткнется в прибрежную отмель и весело заскрипит галька под днищем. Однако невидимый ему нос уставлен был по-прежнему в сторону моря, а просвет был никакой не просвет, а все тот же блистающий магический круг, та ослепительная ловушка, из которой он, как казалось ему, выбрался. Вмиг обессилев, он опустил голову, сложил так, словно кто-то должен был связать их, руки на коленях, даже не подумав вытащить из воды весла, ибо, властно вытесняя все прочее, заполнило его душу сознание тщеты и бессмысленности всякого движения. Нет, он не заговорит первым, не признается вслух в том, что потерпел поражение, не попросит прощения за то, что пошел наперекор воле Бога и вразрез с его предначертаниями и, значит, покусился, хоть и не впрямую, на интересы Дьявола, который всегда извлекает пользу из тех побочных и вторичных, но далеко не второстепенных действий, что неизменно сопровождают точное исполнение Божьей воли. Молчание, воцарившееся после неудачной попытки, было недолгим.
Вновь оказавшийся на возглавии кормы Бог с ложной многозначительностью судьи, который собирается приступить к ритуалу оглашения приговора, одернул полы, оправил ворот своего одеяния и сказал: Начнем сначала, с того места, когда я сказал тебе, что ты — всецело в моей власти, ибо всякое твое деяние, не являющееся смиренным и кротким подтверждением этой истины, будет зряшной, а значит, и недопустимой тратой времени твоего и моего. Ладно, начнем сначала, молвил Иисус, только я наперед заявляю, что от дарованной тобою возможности творить чудеса отказываюсь, а без них замысел твой — ничто, хлынувший с небес ливень, не успевший утолить ничью жажду. Слова твои имели бы смысл, если бы от тебя зависело, творить тебе чудеса или нет. А разве не от меня? Разумеется, нет: чудеса — и малые, и великие — творю я, в твоем, ясное дело, присутствии, чтобы ты получал от этого причитающиеся мне выгоды, и в глубине души ты ужасно суеверен и полагаешь, что у изголовья больного должен стоять чудотворец, и тогда свершится чудо, на самом деле стоит мне лишь захотеть, и умирающий в полном одиночестве человек, которого не лечит лекарь, за которым не ходит сиделка, которому кружки воды подать некому, так вот, повторяю, стоит лишь мне захотеть, и человек этот выздоровеет и будет жить как ни в чем не бывало. Отчего же ты это не делаешь? Оттого, что он будет уверен, что спасся благодаря своим личным достоинствам, и непременно будет разглагольствовать так примерно: Не мог умереть такой человек, как я, — а в мире, созданном мною, и так уж чересчур пышно процвело самомнение.
Иными словами, все чудеса сотворены тобой? Да, и те, что ты явил, и те, что явишь в будущем, и даже если мы предположим невероятное — а смысл этого предположения в том лишь, чтобы до конца прояснить вопрос, по которому мы здесь собрались, — так вот, если даже предположить, что ты и впредь будешь противиться моей воле, начнешь на всех углах заявлять — это я так, к примеру, — что ты не сын Божий, я обставлю твой путь столькими невероятными чудесами, что тебе не останется ничего иного, как сдаться и принять благодарность тех, кто благодарит за них тебя — то есть меня. Значит, выхода у меня нет? Ни малейшей лазейки, и не стоит уподобляться агнцу, который не хочет идти на заклание, и упирается, когда его ведут к алтарю, и стонет, когда ему перерезают глотку, — все это без толку: судьба его предрешена, и жертвенный нож занесен. Я и есть этот агнец. Сын мой, ты — агнец Божий, ты — тот, кого поведет к своему алтарю сам Бог, подготовкой к чему мы, кстати, тут и занимаемся. Иисус взглянул на Пастыря, словно ждал от него — нет, не помощи — а — в силу одного того, что тот не человек и никогда человеком не был, не бог и никогда богом не станет и потому просто обязан смотреть на вещи иначе — всего лишь взгляда, движения бровей, знака, пусть даже уклончивого, который бы — пусть ненадолго — позволил бы ему не чувствовать себя обреченным на заклание агнцем. Но в глазах Пастыря Иисус прочел слова, уже однажды произнесенные им: Ты ничему не научился, уходи, — и понял, что мало один раз не повиноваться Богу; что тот, кто отказался принести ему в жертву ягненка, не должен покорно резать овцу, что Богу нельзя сказать «Да» и тут же — «Нет», словно слова эти — весла, и гребля идет на лад, лишь когда работаешь обоими. Бог, несмотря на то что он вечно демонстрирует свою силу. Бог, который есть Вселенная и звезды, громы и молния, грохот и огнь извержения, не обладает достаточным могуществом, чтобы заставить тебя убить овцу, и если ты в чаянии грядущей славы и власти все же убил ее, пролитая тобою кровь не полностью ушла в землю пустыни — гляди, как она подползает к нам, эта красная струйка, как вьется она в воде, а когда выйдем мы на берег, по суше неотступно будет следовать за нами — за мной, за тобой, за Богом. Иисус сказал Богу: Я объявлю людям о том, что я — Твой сын, Твой единственный сын, но, боюсь, что даже здесь, в краях, которые Ты считаешь своими, этого будет мало, чтобы расширить по воле Твоей Твои владения. Спасибо тебе, сын мой, за то, что бросил наконец свое утомительное упрямство, которым чуть было уже не навлек на себя мой гнев, и своими ногами вступил на стезю, именуемую modus faciendi [ 6]: из всего того неисчислимого множества разнообразных отличий, существующих меж людьми, одно объединяет их всех, независимо от расы, цвета кожи, бога, в которого они верят, и философии, которую исповедуют, одно свойственно и присуще им всем, просвещенным и невеждам, молодым и старым, могучим и немощным, — никто из них не осмелится сказать: Ко мне это не имеет отношения. Что же это такое? — осведомился с нескрываемым интересом Иисус. Всякий человек, продолжал Бог наставительно, кто бы ни был он, где бы ни жил, чем бы ни занимался, — греховен, и грех так же неотделим от человека, как человек от греха, это как две стороны одной монеты: на одной — человек, на другой — грех. Ты не ответил на мой вопрос. Отвечу, отвечу, и, таким образом, из сказанного следует, что ни один человек не посмеет отвергнуть как не имеющее к нему отношения слово: Покайся, потому что все, хотя бы однажды в жизни, но согрешили — кто дурно подумал о другом, кто преступил обычай, кто совершил преступление, кто не пришел на помощь нуждавшемуся в нем, кто нарушил долг, кто оскорбил веру или служителя ее, кто предал Бога, — и всем этим людям тебе достаточно будет сказать: Покайтесь! Покайтесь! Покайтесь! Неужели из-за такой малости стоит жертвовать жизнью человека, которого ты называешь сыном, — не проще ли отрядить к ним пророка? Миновали времена, когда люди внимали пророкам, сегодня нужно средство посильней — такое, чтобы продрало по-настоящему, вывернуло наизнанку, перетряхнуло все их чувства. Например, сын Божий на кресте. Годится. Ну, а что мне еще сказать всем этим людям, кроме призывов к покаянию, если им надоест слушать Твоего посланника и они отвернутся от меня? Конечно, этого маловато, но придется тебе поднапрячь воображение, и не говори, что ты им не наделен: я до сих пор вспоминаю, как ты сумел спасти того ягненка, назначенного мне в жертву. Это было нетрудно: ягненку не в чем было раскаиваться. Сказано хорошо, жаль, что бессмысленно, но и это пригодится — пусть люди потеряют спокойствие, встревожатся, пусть думают, что если им невнятны твои слова, то не слова виноваты. Придется рассказывать им всякие истории? Придется: истории, притчи, моральные поучения, и ничего, если придется погрешить против Завета, подобные вольности люди боязливые особенно ценят у других, мне и самому, хоть я далеко не боязлив, понравилось, как ты ловко избавил от смерти прелюбодея, и, согласись, из моих уст такая похвала дорогого стоит, ибо это я определил в Законе, за какую вину кого и как карать, и сам Закон дал вам тоже я. Ты позволяешь преступать Закон — это дурной знак. Позволяю, когда мне это на пользу, и требую, чтобы его блюли неукоснительно, когда мне это выгодно, вспомни, что я тебе объяснял о правиле и исключениях, ибо в моей власти в тот же миг превратить исключение в правило. Ты сказал, что я умру на кресте. Да, такова моя воля. Иисус покосился на Пастыря, но тот сидел с таким отсутствующим видом, словно видел какой-то эпизод из далекого будущего и глазам своим не верил. Иисус уронил руки и произнес: Да будет мне по воле Твоей.
6
Образ действия (лат.).