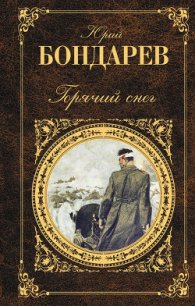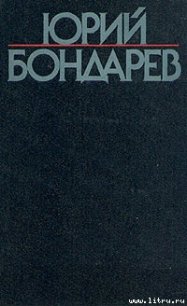Берег - Бондарев Юрий Васильевич (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации txt) 📗
– Никитин! Стой! Стой!
А он, переступив порог, шагнул на каменные плиты, проложенные к лужайке, шахматно исчерченной светом и тенями сосен, носом вдохнул водянисто-пресный запах травы, и сердце запнулось в тугом скачущем перебое, и потемнела лужайка впереди.
– Никитин, стой!
Он не оглянулся. У него толчками звенело в ушах.
– Никитин, стой, приказываю! Стой!..
Грохоча сапогами, затрудненно дыша, Гранатуров подбежал к нему, железной силой рычага рванул одной рукой за плечо, недоуменная рыскающая темнота его взгляда, выжигающе спрашивая, кидалась то в самые зрачки Никитина, то на расстегнутую кобуру, он кричал задыхаясь:
– Что? Что сделал, Никитин? Стрелял? Зачем? С ума сошел? Да ты что? Где оружие? Где твое оружие?
– Можете арестовать меня, комбат, – сказал Никитин. – Арестовывайте. – И в машинальном, полубезумном спокойствии расстегнул пряжку ремня. – Кажется, ремень снять… и погоны? И, кажется, нужна записка об аресте и конвоир?
– Где?.. Где оружие, я спрашиваю? Где пистолет? Заткнись, идиот, псих, мушкетер несчастный!..
Всей громоздкой фигурой Гранатуров как бы заслонял Никитина от суматохи, передвижения, голосов в коридоре, толкал, теснил его локтем, придавливал коленом к стене дома, начал быстро ощупывать кобуру, оказавшуюся пустой, и тут же лапнул правый карман его галифе и, рвя наизнанку вывернутую материю подкладки, выдернул пистолет, вбросил его в свой карман, выкрикивая со злобой:
– Что же ты наделал? За что ты его? Что ты сделал? Что? На какой шаг пошел, на какой шаг, мальчишка! Думал чем-нибудь? Княжко подражаешь? Захотел жизнь свою исковеркать? Пострадать за правду? Интеллигенты, дьяволовы щенки молочные!
– Нет. Не то, комбат…
– Что «не то»? А ну! Иди вперед! – бешено крикнул Гранатуров, косо двинув плечом в спину Никитина. – А ну! В дом иди! Назад! Я тебя арестовываю! В дом, лейтенант Никитин! Ремень снять, погоны спять! Таткин, взять автомат и – ко мне!
Потом, уже проходя по коридору, вмиг затихшему, почудилось, по-вечернему совсем темному, разделенному нечеткими пятнами лиц вдоль стен, Никитин снял ремень с пустой кобурой, отстегнул погоны, молча передал все это в чьи-то ковшиком подставленные ладони, удивился – «ковшиком!» – и здесь же, в коридоре, из открытой настежь двери столовой не сразу и не очень отчетливо услышал протяжно-однотонные, жалобные, зовущие стоны, затем дошел грудной командный голос Гали: «Да подложите ему шинель под голову!» И тогда он невольно взглянул в солнечную прорубь света, туда, в угол этой комнаты, куда стрелял… Там, между Зыкиным и Ушатиковым, глядя вниз с серьезным, озабоченным лицом, стояла Галя, зубами разрывая индивидуальный пакет, но отсюда, из коридора, не было видно лежавшего на полу Меженина, загороженного столом. Стонал он. И что-то раскаленно зазубренными краями повернулось в груди Никитина – неужели это Меженин? Неужели это он?
Нет, так по-человечески жалобно, безнадежно не мог стонать Меженин, еще несколько минут назад выскочивший в неистовстве из-за стола, с истерической энергией намеренный защищаться, рушить, взорванный ненавистью к Никитину, к сержанту Зыкину. И это он, Меженин, в затмении угрожающего действия, крича полоумным животным криком («как кость перегрызу!»), швырнул в Никитина стул и, промахнувшись, ринулся к взводным автоматам, сложенным на полу.
«Нет, он не мог так стонать, это ошибка, это не Меженин, не он…»
– В госпиталь его! Быстро перевязку – и на моей машине в госпиталь! – властно скомандовал за спиной Гранатуров в открытую дверь и выматерился муторной скороговоркой, переменил команду: – Стой! Без меня не отправлять! Не отправлять! Я сам с ним поеду! Выносите его к машине – и подождать меня! Ну, вперед, вперед! – приказал он, подгоняя Никитина с грубой неутихающей яростью, круто, нетерпеливо его тесня. – Быстрей, быстрей, говорят!
– Только вот что… Прошу не кричать на меня, комбат! – сказал Никитин, едва удерживая голос на краю безумного спокойствия. – Я пойду куда вам угодно… в штаб полка, в смерш, куда хотите…
– Ма-алчать! Советовать мне еще будешь! – закричал Гранатуров, плотнее надвигаясь сзади, и в затемненном, за кухней, тупичке коридора, железной хваткой сдавил его плечо, пихнул к деревянной лестнице, которая вела на мансарду, где была комната Никитина. – Туда! Наверх! Запереть его! Таткин! Запереть его и охранять! Стоять возле двери – ни на шаг, никуда не выпускать! Ясно? Отвечаете за него!
– Напрасно, комбат, – сказал Никитин, поймав зрением маленького, угрюмо-насупленного Таткина, потерянно замявшегося возле ступеней лестницы. – Я никуда не убегу. Нет смысла.
– Молчать! Наверх его, туда! Запереть и охранять!
И было еще одно – унизительное, необлегчающее, как бы последнее на этом пути к его комнате после ареста. Сопровождаемый вооруженным Таткиным, он стал подыматься по лестнице и посмотрел вверх, на стрелы сквозных солнечных лучей, на пронизанное светом дня маленькое пыльное оконце. И ему вообразилось, ему померещилось: что-то белое легкой косой тенью мелькнуло, испуганно отскочило за щелью слегка приоткрытой на площадку двери, и мгновенно дверь захлопнулась, там, наверху, слабенько щелкнул изнутри замочный ключ.
Он вошел в мансарду, полуобернулся к оставшемуся на пороге Таткину и, не встретив его отпрыгнувшие к стене глаза, сказал: «Ну, охраняйте…», но, только закрылась дверь, ноги перестали слушаться, подкосились в коленях, – он упал плашмя на постель, лицом в подушку, шепча в исходном приступе лихорадочного, удушливого отчаяния:
– Это все, все, это – все…
Ключ заворочался в замке и отдался тошнотным звуком; опустилась на мансарду тишина; а внизу отдаленно жужжали, сталкивались разжиженные голоса.
13
«Дяденька-а!..»
С левого берега пробила пулеметная очередь, высекла изо льда искры, и он пригнул голову, упираясь локтями в края проруби. Ремень натянулся, распарывал взлохмаченную воду толстой струной, и ощутимо на том конце ремня боролась неимоверная упругая тяжесть, рванувшая его за собой: Штокалов, вытолкнув из воды предсмертное, с белыми глазами, с исковерканным ртом лицо свое, хрипя нечленораздельное, исчез под кромкой проруби. Его неудержимо потащило туда, под синеватый ледяной срез, и мокрая лента ремня стала твердой, как железная полка, а этот металлический рычаг с гигантской силой повернулся, всплескивая волну, вправо и влево. И неведомое, ужасное, тайное, что было в этой студеной воде, повезло, поволокло Никитина за руку, на которой намертво был накручен ремень. И он, еще борясь с поворотами рычага, из последних усилий потянул к себе это живое, неодолимое, тяжелое, ушедшее под закраину проруби, чувствовал, как его волокло и волокло локтями, животом по льду к чугунно-черной воде, дышащей гибельным холодом. Не было уже никакой опоры, а его все быстрее, все наклоннее везло к обрыву проруби, снизу жгуче окатившей паром и брызгами голову, и он успел заметить справа, вблизи своего локтя, большого полосатого окуня, выброшенного разрывом, вмерзшего в ледяные осколки растопыренными жабрами. Это было единственное препятствие, во что еще мог упереться его локоть. Он сделал скачок локтем, жесткая пряжка ремня бритвой резанула по ладони, а Штокалов все рвал ремень из глубины, дергал, тянул, чудовищными рывками увлекал его за собой, и закаменелый колючками жабр окунь, хрустя, прополз куда-то под грудь ему.
И потом ударил, хлынул в рот, в ноздри рвотный вкус зимней воды, а в мутном дыме ее впереди замелькали темные скользкие тени, похожие на вожделенно, остро растопыренные клешни голодных раков, которые со всех сторон спеша подползали к нему, туго зашевелились под ним, сталкиваясь, скрипя холодными панцирями на голом животе под шинелью, впиваясь рвущей болью…
Так на долю секунды представилась ему своя смерть – и тогда, в подсознании последнего напряжения не выпустить ремень, почти захлебнувшись поднятой волной, он очнулся от боя пулеметной очереди над головой – она пробила с того берега низкими трассами. Он лежал на самом краю проруби, стоная, выташнивая воду, а в кровь изодранная о лед, сведенная судорогой рука закоченела, не выпускала, держала ремень, бессмысленно легкий, освобожденный. И посреди успокоенной полыньи тонко, стеклянно позванивали, терлись друг о друга льдинки, и круглыми чашами плавали две шапки – его и Штокалова, поношенная солдатская ушанка с пропотелой внутренностью, где по-хозяйственному была вколота иголка, обмотанная ниткой.