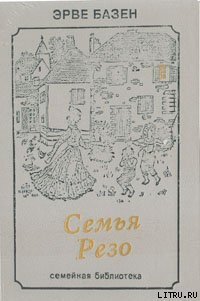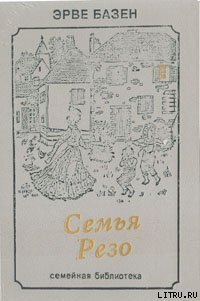Кого я смею любить. Ради сына - Базен Эрве (книги без сокращений txt) 📗
представлять его: “Мой сын”, — я привык к этому сочетанию слов. И если мне случалось выйти из дому без
него, возвратясь, я непременно спрашивал:
— Мой сын дома?
Лора привыкла к этому. “Мой сын” значило для нее: “сын, который всегда дома”. Она не видела здесь
злого умысла. И иногда даже отвечала:
— Нет, вашего сына дома нет, но неожиданно приехал Мишель.
Она долго даже не замечала этого, впрочем, так же как не замечал и я сам, ведь я произносил “мой сын”
без особого ударения; по имени я называл его, только обращаясь к нему, никогда не употребляя никаких
“лапочек” и “деточек” и даже уменьшительных форм от его имени: “Ну, поехали, Бруно?.. Слушай, Бруно, ты не
забыл подлить воды в радиатор?.. Надень свитер, Бруно, сегодня холодно”. Имя Бруно без конца звучало в
вопросительных, повествовательных и восклицательных предложениях, и только интонация придавала ему
различные оттенки; обычно я старался помягче произносить это имя, словно боялся обидеть мальчика, который
его терпеть не мог (но ведь не я его так назвал) и который даже иногда ворчал: “Бруно — зерно, живот может
разболеться от такого имени”.
Примечательный факт — Бруно платит мне той же монетой. Слово “папа” не исчезает из его лексикона,
но чаще он предпочитает спрашивать:
— Мой отец дома?
Непринужденность Бруно. Это доказательство нашей близости мне дороже всех остальных. Тем более
что непринужденность никогда не была отличительной чертой его характера. До сих пор, стоит ему выйти за
калитку, он словно весь сжимается. Я завоевал право на эту непринужденность, я видел, как мучительно
рождалась она из страшной скованности; я всячески поощрял ее и всеми силами старался развить в нем эту
черту. Счастье еще, что, несмотря на все мое потворство, непринужденность не превратилась у него в
развязность. Бруно не злоупотребляет ею, он, вероятно, даже не подозревает, какие в нем произошли перемены.
Непринужденность проявляется теперь в каждом его жесте, в его вопросах и ответах. Его слова, хоть он и не
думает обидеть вас, иногда могут задеть за живое. У него непогрешимый слух и беспощадный взгляд юности.
Случается, он говорит мне в лицо такие вещи, которые никто бы не осмелился сказать. Вот, например, мы с ним
у радиоприемника:
— Ну, ты уж что-то совсем… Мы же это слушали. Надо ловить на коротких волнах.
Или вот я выхожу из ванной:
— Смотри-ка, папа, да ты живот отрастил.
Такое я не разрешил бы сказать никому другому.
Откровенность Бруно — еще одно доказательство нашей дружбы. Бруно научился быть откровенным.
Вернее, он может теперь быть откровенным, если захочет. Но хочет он этого не слишком часто. Бруно мальчик
неразговорчивый и зря языком болтать не будет. Он не станет шушукаться, изливать мне свою душу, доверять
секреты, подобно многим девчонкам, которые доставляют этим огромную радость своим матерям. Он, видимо,
наделен от природы даром хранить тайны. Некоторые из них запрятаны у него глубоко, словно костный мозг, и
их невозможно извлечь, не распилив кость. Чаще всего его тайны открываются мне в коротеньких восклицаниях
или несуразных вопросах. Для него не существует табу, он не знает, что такое ложный стыд. Он вдруг начинает
выгрызать у себя блох. И уж если он за это принимается, значит, они ему действительно досаждают.
Ну вот хотя бы такая сцена. Весь взъерошенный — нервничая, он взлохматил себе волосы, — Бруно
выбегает из химического кабинета. Хватает учебник, судорожно листает его, наконец находит нужную
страницу.
— Нет, вы видели такого дурака! — восклицает он.
Это, конечно, относится к нему самому, потому что о другом он, как и все, сказал бы что-нибудь
посильнее. И он продолжает, не щадя себя, с той откровенностью, которой так не хватает мне, когда я
занимаюсь самокритикой:
Не мог бы ты вложить в меня побольше памяти?.. Опять я засыпался с этими валентностями. Зато
можешь не волноваться — в институте меня учить не придется.
Все это говорится еще совсем по-детски. Но иногда откровенность Бруно заходит очень далеко. Мне
нравится, с какой непосредственностью касается он вопросов, о которых я в его возрасте стыдливо молчал.
(Хотя отцовское ухо может быть снисходительнее материнского.) Бруно такой же страстный пловец, как и его
брат, иногда он уговаривает меня пойти с ним на общественный пляж. Он ныряет под канаты, отталкивается
пятками от бакенов, не считаясь ни с какими правилами, легко справляясь с течением, добирается до железного
моста, переброшенного через Марну, подплывает под него и потом возвращается. Он плывет то брассом, то
кролем, то с самым безмятежным видом лежит на спине, поражая худеньких с втянутыми животами русалочек,
боязливо сидящих на мостках причалов. Обычно он даже не смотрит в их сторону. Но вот на пляже появляется
совсем иное создание — девушка с совершенными формами, которые едва сдерживает купальник. Ее лицевая
сторона (то, что Бруно называет “фарами”), так же как и обратная (то, что Бруно называет “палубой”), могут
соперничать только с великолепием статуй. Бруно, который в эту минуту с победоносным видом вылезает из
воды, вдруг как будто весь съеживается. Он подходит ко мне, и мне кажется, что он стал меньше ростом, уже в
плечах, сгорбился и словно полинял. Он не может оторвать взгляда от незнакомки, которая проверяет упругость
трамплина, готовясь к прыжку. Он борется с собой, смотрит на нее, отводит глаза в сторону, наконец
решительно отворачивается. Садится рядом со мной, поеживается и говорит:
— Черт, до чего же она меня разожгла.
И, стараясь сделать это незаметно, поправляет плавки. Мне становится неловко. Я завидую языческой
простоте отца святого Августина, который, моясь с сыном в термах, с гордостью заметил, что тот уже
становится мужчиной. Но Бруно не оставляет меня в покое.
— И главное, от тебя здесь ничего не зависит! — продолжает он без тени иронии. И тут же добавляет: —
А вот попробуй-ка справься с этим по вечерам! А у тебя так бывало?
Вот чертенок! В голове у меня одна за другой вспыхивают мысли, как свечки, вставленные в церковную
люстру и соединенные фитилем, от которого они зажигаются. Первая: с какой легкостью касается он таких
нелегких вопросов! Свойственно ли это качество только ему или всему их поколению? Вторая: он мог бы
сказать: “А у тебя так бывает?” Уж не думает ли этот наивный мальчик, что я не реагирую на соблазны?
Третья: когда мне было восемь лет, я находил возмутительным, что в витринах лавок выставляются конфеты.
Мир плохо устроен. И в желаниях, так же как в лакомствах, приходится постоянно сдерживать себя. Видит око,
да зуб неймет. Четвертая: одна свеча не зажигается — я не могу сразу подыскать ответ, которого он ждет.
Пятая: нет ничего порочного в том, что происходит с Бруно; все определяется тем, как это воспринимаешь. И
тот, для кого это лишь успокаивающее средство, не теряет своего целомудрия. Почему мне не сказать Бруно
того, в чем сам я так убежден, почему не вернуть этому ребенку чистоту и спокойствие? Шестая: вот как может
обернуться эта жизненная банальная и вечно живая проблема, перед которой немеют отцы, так же как в свое
время немели их отцы, не в силах выполнить свой долг. Ну что ж, постараемся выкрутиться, поскольку
мужества у нас маловато.
— Все мы одним миром мазаны.
Эта фраза не оправдывает его, но и не осуждает.
Меня бросает в жар. Но вот вспыхивает последняя, седьмая свеча, она горит так ярко, что перед ней
меркнут все остальные: “Чертенок! Сынок мой! Разве не ясно, чем вызвано такое доверие? Я так об этом
мечтал. Вот кем я стал для него…” На минуту пламя свечи колеблется и начинает коптить. Бруно что-то совсем