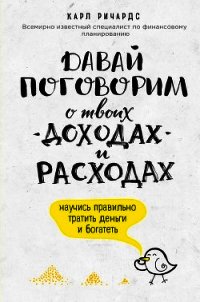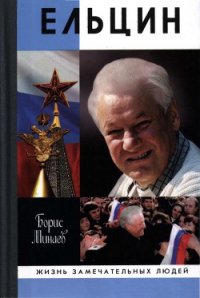Психолог, или ошибка доктора Левина - Минаев Борис Дорианович (хорошие книги бесплатные полностью .TXT) 📗
На такой подвиг он, разумеется, вряд ли бы решился, но все же странное покалывающее ощущение в груди веселило его.
Они вышли сразу после завтрака – вдвоем, он и Владимир Андреич. Спортсмен и, так сказать, руководитель делегации. Идти от Донского проезда до стадиона при Дворце пионеров на Ленгорах было хорошим шагом минут тридцать. Или даже меньше.
Но в пути их задержал кортеж президента Никсона.
– Черт, можем опоздать! – хмуро сказал Владимир Андреич, когда на Ленинском проспекте они уткнулись в плотную толпу людей с флажками, вернее, в их спины. Флажки были двух видов – наши и звездно-полосатые. Лева впервые увидел флаг враждебной страны в руках у советского человека. Это был крупный пузан лет тридцати, в рубашке с короткими рукавами, рыжий и очень волосатый. Он махал флажком и кричал:
– Друж-ба! Раз-ряд-ка! Дружба! До-го-вор!
– Какой договор? – поинтересовался Лева.
– Да ладно, не важно, – вяло ответил Владимир Андреич и посмотрел на часы.
Остальные встречающие президента Никсона москвичи стояли молча – какие-то невыразительные тетки, люди в пиджаках, милиционеры.
Все напряженно смотрели в ту сторону Ленинского проспекта, откуда сейчас должна была проехать делегация из Внукова.
Наконец показались первые машины.
Затем – кортеж мотоциклистов.
Это были шикарные мотоциклисты в белых шлемах и белых крагах – огромных кожаных перчатках.
– Красиво встречаем главу враждебного государства, – сказал вдруг Владимир Андреич.
– Ну вы потише, мужчина! – толкнул его кто-то в бок.
Когда мотоциклисты и лимузины «ЗИС» поравнялись с толпой, она мгновенно ожила, замахала, заулыбалась.
Но это продолжалось недолго.
Скоро толпа рассосалась, и проспект опустел.
Они дождались зеленого и быстро перешли необъятный в этом месте проспект.
– А как же Анжела Дэвис? – спросил Лева Владимира Андреича, но тот уже не слышал, увлекая его вперед, к стадиону.
Вовсю жарило солнце, огромный город ждал Леву, принимая его в объятия и смыкая крепкие руки у него на шее, и Лева перестал удивляться, он шел просто так, непонятно куда, ощущая легкий кайф в этом новом равнодушии: просто идти, и все. И ничего не бояться.
А на стадионе было вот что. Сначала Лева и воспитатель посидели немного на трибунах, посмотрели на другие забеги. У Левы заныло под ложечкой, потому что выступали настоящие юные спортсмены, ничего школьного тут не было – крепкие ребята, мышцы, глаженые трусы. Орала музыка по громкоговорителю, ветер и солнце, сверкал прудик за стадионом, навалилось ощущение чужого праздника, и в этот момент Владимир Андреич толкнул Леву:
– Все. Тебе пора.
Пока Лева шел в своих мятых тренировочных брюках и застираной майке, спускаясь по трибунам вниз, к футбольному полю, он успел заметить девочку.
Это была тоже какая-то специальная спортивная девочка, тоже в майке, в белой юбке и белых гольфах, но она была такая ослепительно красивая, что Лева чуть не упал, под общий смех, чуть не покатился кубарем вниз, засмотревшись на этот праздник мира и спорта.
Ни жив ни мертв он вышел на старт, рядом с двумя бугаями в коротких трусах, которые кисло ухмыльнулись на его треники.
Лева нашел глазами праздник мира и спорта и решил посвятить этот забег ему. В смысле ей – она улыбалась спокойно и ела мороженое.
Тактики было две: просто проволочь дистанцию, прошлепать ее (именно так объяснял ему задачу Владимир Андреич) или постараться удержаться за спинами бугаев, то есть умирать, но не сдаваться.
Лева выбрал вторую.
Хлопок выстрела (все было всерьез) застал его врасплох, бугаи сразу улетели далеко, но он, выбрасывая вперед ноги в тяжелых кедах и трениках, все-таки попытался их догнать.
В конце прямой линии он понял, что дыхания нет, но продолжал отталкиваться с той же силой.
В животе было больно. Он согнулся и сел.
Бугаи, тоже тяжело дыша, ходили вокруг него.
«Я из психбольницы!» – хотелось крикнуть Леве, но сил уже не было.
Радуга поплыла перед его глазами, зазвенело в ушах. Автору хотелось бы сказать: и в этот момент Лева потерял сознание, но нет, этого не случилось, подбежавший к нему Владимир Андреич укоризненно поцокал языком, заставил походить, поприседать, предложил понюхать нашатырь, но Лева помотал головой и тяжело захромал в сторону выхода.
Праздник мира и спорта улыбался ему с трибуны.
Может быть, именно тогда Лева и почувствовал, что в этих белых гольфиках, или белых носках, или вообще в чем-то, что носят женщины в этом месте своего тела, есть какой-то невыразимый смысл, который обязательно надо понять?
А может быть, и нет. А может быть, он просто разочарованно поплелся прочь, лишь иногда воровато оглядываясь на трибуны, где разные девочки ели мороженое и смеялись над психом в тренировочных штанах?
Леве очень хотелось спросить Владимира Андреича, был ли какой-то урок в этом унижении – не для школы, а для него лично, но постеснялся. Да и вряд ли воспитатель ответил бы ему на этот вопрос.
Неожиданно Нина выписалась из больницы.
То есть она продолжала приезжать на какие-то сеансы, сидела у врачей, но потом сразу уезжала домой, и встречались они теперь только по субботам и воскресеньям.
У этих суббот и воскресений было два жанра: длинные бесцельные прогулки по Москве, с сидением на лавочках, когда Лева мучительно попадал в паузу и говорил от этого все невпопад и не как надо. Были и поцелуи, но найти безлюдное место в Москве – серьезная проблема, а целоваться на людях он не очень умел. Она смеялась над ним, иногда даже трясла его за воротник: ну хватит, хватит, проснись…
Эти разговоры он не запомнил.
Она очень уклончиво отвечала на его вопросы о будущем и невнимательно слушала его бессвязные реплики о его собственном, Левином, самочувствии. Он и сам не мог понять, что это за самочувствие – все вокруг было заполнено ею, ее плечами, ее походкой, ее одеждой, ее голосом, ее насмешками над ним, ее грустью, тревогой, которую она не скрывала, хотя и ничего не говорила прямо, и в то же время как обращаться с этим человеком, куда его вести, что предлагать и что вообще делать – он беспросветно не знал.
Это было такое горькое и сладкое одновременно ощущение, которым он никак не мог с нею поделиться. Да и надо ли было делиться – он не знал. В эти длинные дни и вечера они обошли всю Москву, встречались в центре, на бульварах, на Ленгорах, а Москва в августе была одновременно и пустынной, и бестолковой для них, маленьких, глупых и подавленных своей тайной.
После этих нелепых встреч он шел домой, но под каким-нибудь предлогом быстро срывался и шел на улицу, на угол улиц Кастанаевской и Барклая, в переговорный пункт. Из дома звонить ей он, конечно, не мог.
Этот переговорный пункт стал для него настоящим кошмаром.
Там были кабинки для международных переговоров и одна – для городских. Он набирал ее номер (можно было наменять двушек хоть на целую жизнь), говорил: «Привет», слушал ее ленивое бормотание, она засыпала от его пауз и изредка насмешливо спрашивала: эй, ты где, ты живой?
Кабинка становилась жаркой и душной от его дыхания, а он стоял тут иногда по полчаса, тетки, звонившие по делу или с родственными хлопотами во все концы Союза, смотрели на него с удивлением, с любопытством, с раздражением, но он все никак не мог уйти, все стоял и пытался поймать ускользающую нить разговора:
– Ты сейчас что будешь делать?
– Ничего. Уроки. Какая разница? А ты?
– А я буду с тобой говорить. Пока ты не повесишь трубку.
– Давай я сейчас повешу. А то мама будет тебя искать, волноваться. Ты опять из кабинки звонишь?
– Ну да.
– Странный ты. А почему ты их боишься? Родителей?
– Да я не боюсь. Просто… Здесь удобней.
– Ну тогда говори что-нибудь.
– А что говорить…
– Я не знаю, что. Это же ты мне позвонил.
– Я хотел тебя услышать.