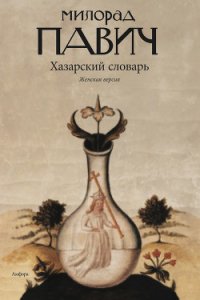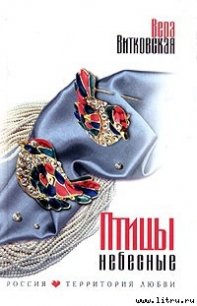Небесные всадники - Туглас Фридеберт Юрьевич (бесплатные книги онлайн без регистрации .TXT, .FB2) 📗
Принято считать, что «Дон Кихот» Сервантеса разом покончил с испанским рыцарским романом, который до того читался и был в цене. Однако это поверхностное суждение. Далеко не все надо относить на счет Сервантеса, более того, Сервантес оказался всего лишь превосходным орудием в руках эпохи.
Прежде всего во времена Сервантеса в общественной жизни Испании произошел великий перелом. Начался неизбежный экономический и политический упадок страны: из величия и богатства — в ничтожество и бедность. Реальность, все более обыденная, уже не отвечала прежней национальной гордости. А вместе с тем и кичливый рыцарский роман стал бессмысленным, лишился корней. Общество даже отшатнулось от него. На это указывает и то обстоятельство, что с 1553 года рыцарские романы были запрещены в Испанских колониях, где они не имели никакой социальной почвы, да и в самой Испании в 1555 году в парламент был представлен закон о запрете рыцарского романа — за 50 лет до появления «Дон Кихота». Интеллигенция давно уже от него отказалась, духовное сословие с ним боролось, и деликатесом он оставался только для поместного дворянства и низших сословий. Но — и это весьма существенно — то, чего не добились своими увещеваниями ученые и параграфы закона, свершил убогий однорукий старик-заика: после пародии Сервантеса в Испании не появилось ни одного рыцарского романа. А «Дон Кихот» выдержал во всем мире 800 изданий.
Этот роман не сделал Сервантеса первопроходцем и в области формы. Пародии на отжившие свой век литературные жанры в Испании были в ходу и раньше. Например, когда наскучили старомодные хроники, в 1555 году некто, назвавшийся придворным шутом короля, выпустил пародийное историческое произведение. Этой традиции следовал и Сервантес. И в то же время — как мало терпимости в рамках собственного метода: автор «Дон Кихота» никогда не мог простить Авельянеде{77}, что тот издал своего рода пародию на его произведение — фальсифицировал второй том.
А с другой стороны: покончив с одним отставшим от времени шаблоном, романтическим, он сразу же заменил его другим, более отвечавшим духу времени. Обычно в нем видят защитника литературного реализма и философского рационализма. Но и это однобокий взгляд. В конце «Дон Кихота» отразилась уже новая романтика — пасторальной поэзии. Кажется, во всей испанской литературе нет произведения, написанного в более фальшивом тоне, чем пасторальный роман Сервантеса «Галатея», как уверяет в своей истории испанской литературы Джордж Тикнор{78}. Драматические произведения Сервантеса настолько ложно романтичны, что в свое время возникло даже совершенно произвольное предположение, что Сервантес писал их в качестве пародии на пьесы Лопе де Вега, подобно тому, как создал «Дон Кихота», чтобы высмеять рыцарский роман.
Сервантес идеализировал только новые сражения с ветряными мельницами. Эта романтика отличалась от прежней лишь настолько, насколько наемный солдат нового времени отличался от средневекового рыцаря. И действительно, не самого ли Сервантеса пародируют позднейшие сочинители фарсов, когда изображают старых хвастливых вояк? Ведь это он любил при каждом удобном случае бить себя в грудь и твердить: я тоже, я тоже был в битве при Лепанто! Это всего лишь новый тип Дон Кихота, который далеко еще не был смешным тогда, хотя вполне может быть таковым в наше антимилитаристское время.
Давайте все-таки не будем преувеличивать, говоря о влиянии литературы на общество. Безнравственная или вообще порочная литература может повлиять на уже разыгравшийся аппетит. Такая литература — продукт определенного состояния общества, а не наоборот. Не поэзия Овидия привела к падению нравов в Риме, но она сама была проявлением этого падения.
И точно так же как безнравственные, не в состоянии кого бы то ни было по-настоящему изменить и произведения добродетельные. Ведь можно полагать, что последних прочитано гораздо больше, чем первых, однако же моральный облик мира остается в общем-то прежним. Есть книга, говорит Яльмар Седерберг, которую человечество читает непрестанно полторы тысячи лет, не порывая при этом со своими пороками, — это библия. Неутешительное свидетельство влияния литературы.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Сколько случайных влияний отзывается в деталях формы литературного произведения. Самочувствие автора, порыв вьюги за окном, взметнувший настроение покинутости, или сияние солнца, соблазняющее выйти из дому и удваивающее тяжесть работы, — какое-нибудь недавнее событие, помнит которое только подсознание — какая-то свербящая контрастная мысль, почти такая же подсознательная… Эти и несметное число других столь незначительных и едва уловимых явлений оставляют свой след. Они никогда не повторяются в той же комбинации и пропорции. Потому-то неповторима и мысль с ее каждый раз своим колоритом, тоном и ритмом, если ей даже и суждено в чем-то повториться.
Из-за неповторяемости сопутствующих компонентов писатель не в силах восстановить утраченное произведение в прежнем виде. Виктор Гюго, правда, писал свой «Нотр-Дам» заново раза три, но результатом, несомненно, всякий раз была совершенно новая вещь.
Любопытно наблюдать, как книга, которую читаешь в ночную пору, обретает некий оттенок, которого на самом деле в ней может и не быть. Перед тобой белая книжная страница, ты окружен стеной тьмы, все внимание сосредоточено в одной лишь точке, и лихорадка усталости окрыляет твою мысль… Завтра, при ясном солнечном свете, книга бесспорно будет восприниматься иначе.
Точно так же музыка в нашем сознании непременно связывается с искусственным освещением, ведь концерты мы привыкли слушать по вечерам. Может быть, именно поэтому музыка вызывает в нас такие празднично-приподнятые образы, чуждые будничному свету дня. А вот Обри Бердсли мечтал о музыке, которую можно было бы слушать с самого утра, как только встанешь, на свежую голову!
Если время дня так влияет на восприятие искусства, то что же сказать о его создании. Здесь все зависит исключительно от настроения конкретного человека. Ночь ограничивает, но она и углубляет работу мысли, ослабевают поводья логики, фантазия навевает видения, — то неукротимые, а то и кошмарные…
Сдается мне, что вся фантастическая литература создавалась ночью, при свете лампы.
Еще об участии наших чувств в творчестве.
Мы видели, как лекторы, когда гас свет, не в состоянии оказывались продолжать свои импровизации: настолько их мысленные образы связаны со светом.
Гомер, если он действительно существовал, не мог быть слеп: так много зримого в его картинах. Зато сомнительно, что Мильтон обладал зрением: до того залит чернотой его образный мир.
Может, Гойя нашел силы быть таким беспощадным в своих знаменитых видениях именно оттого, что был глух? Нам легче видеть агонию животных, которые не кричат. Жертвы жутких сцен Гойи безмолвны, как в немом фильме.
И вместе с тем противоречие. В одном поучительном фильме я видел знаменитого хирурга во время трудной операции: больной содрогался во сне, на простыне расплывались темные пятна крови, и при этом стояла мертвая тишина. И именно последнее обстоятельство действовало ошеломляюще…
И еще большее противоречие. Прекраснейшую свою симфонию Бетховен написал глухим. Не потому ли, что он вообще не слышал больше реальных звуков, а только «идеальные»?
Какие усилия затрачивает человек, чтобы понять предмет как вещь в себе, чтобы проникнуть в самую его сердцевину! В одном из писем Флобер говорит: «Хотелось бы стать коровой, чтобы я мог питаться травой!» Не помню, имел ли он в виду именно этот смысл, но при его методе это было бы вполне понятно.
Забыть себя хоть на миг, распасться на первочастицы и прошуметь вместе с шелестом и рокотом волн в кронах дерев, затаиться в мотыльке и в тигре, побродить кошкой, которая высматривает ночью свои таинственные тропы, побыть дикарем, взлететь птицей и хоть раз бы взглянуть на мир их глазами…