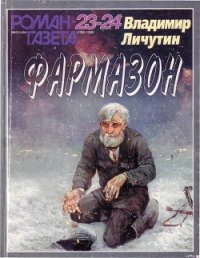Миледи Ротман - Личутин Владимир Владимирович (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные .txt) 📗
Братилов приотодвинулся со скамьи, норовя прихватить ведра с водою, но баба Маня приостановила, и не словом даже, но какой-то особой интонацией в голосе, той жалостинкой, от которой внезапно вздрагивает душа.
– Тоска загрызает, милый?
Братилов пожал плечами.
– Загрызает. И краник залудел, и жизнь насмарку. Тоска загрызает бездельного человека. А тебе-то что до меня?
– Ребенка тебе надо. Сына. Тогда и тоске конец, – цеплялась за художника старбеня, словно бы видя для себя в чужой досаде сладкое удовольствие. Но ведь приклеила Братилова к скамейке, ибо прочитала старенькая насквозь, словно бы вывернула Братилова наизнанку. – А мне никогда скучно не было. У меня такая жажда к жизни была, такое стремление, политику изучала, в кружки ходила и никогда в стороне не была. Тоска, тоска, а сам никуда. Сиднем в дому, как пень. Крови застой, вот и тоска. А меня, бывало, все интересовало. Обрядишься и бегом на спевку. Нет, я никогда в стороне не стояла. – Баба Маня пожевала синими губами, стянула их в куриную гузку, в крохотный пятнистый узелочек, словно бы замолкла навеки, и все ее исхудалое личико с утиным шадроватым носом и рыжими подпалинами на впалых щеках, и косенькими глазенками вдруг выразило одно сплошное недоумение. С нею ли то было? иль причудилось лишь? – И знаешь ли ты, Алеша? И у меня нынче завязалась какая-то тоска. Но другая. Нужда, дак.
Братилов с интересом посмотрел на старенькую, удивляясь тому, что и баба Маня, оказывается, была молодою, интересной, игривой и горячей; и за нею вот волочились парни, и угорали мужики, уставшие от надоевших жен.
– У меня знакомка жила в нижнем конце. Ты знаешь ее, Батькой звали. Батька и Батька, да. Я у нее много чего переняла. К ней вся Слобода ходила по бабьим делам. И ворожила она. Большого ума была женщина. И вот мне подружка Анна Степановна говорит: «Пойдем к Батьке, поболтаем. Что-то душа болит». Ну, приходим, та скрывается в запечье, приносит оттуда чашку воды и две ложки. «Болтайте, говорит, ведь вы пришли ко мне поболтать». Я тогда так удивилась. Ну, думаю, сквозь версты все видит, как по фотокарточке. Посидели, поговорили, пора домой сбираться. Я и подумала: «Время отняли, надо чем-то заплатить». А Батька и отвечает: «Ничего платить не надо». Она, значит, мысли читала, такая вот была женщина. Я долго до нее домогалась: де, распечатай тайну. Ведь помрешь скоро, с собой унесешь все запуки. А она на отбой: нет и нет. Вот я на тебя сейчас смотрю, Алеша, и вижу, будто ты к смерти в гости сходил. А она отпустила. Верно-нет?
– Было, – твердо, не задумываясь, признался Братилов и покраснел; кожа на голове вдруг скукожилась, замерзла, и волосы встали дыбом.
– Не к смерти, так к жизни, – сказала старуха, и взгляд ее необычно выпрямился. – Смерть надо покрывать жизнью.
И пока Братилов попадал с ведрами к дому, обильно оплескивая брюки родниковой водою, он всю дорогу тупо повторял эти знаткие, ворожейные слова, как заклинание: «Смерть надо покрывать жизнью. Смерть надо покрыть жизнью. Смерть надо повенчать жизнью». И он не удивился, когда, открыв в боковушку дверь, увидал посреди комнаты белого зверька, сложившего на груди мохнатые, с черными кружавчиками лапки. Нет, то не была горносталька, – та длинненькая, перетянутая, с карандаш; и не крыса с умным, проникающим сквозь, презрительным взглядом; и не кошечка с зелеными бесстыдными глазищами. Неведомая зверушка стояла столбиком на задних лапах, а передними то ли отдавала команду невидимому, но всюду проникающему миру, иль молилась своим неведомым богам. Увидев Братилова, зверушка прыгнула к подпечку, где хранились ухваты, и осталась за нею лишь мерцающая в воздухе струистая полоска алмазной пыли. Хозяин ли то был, зазевавшийся домовушка, вдруг явившийся взору художника? иль странный сожитель, квартирант, пришедший из лесу на временное житье и застрявший в нем навсегда? иль голодный прошак, забредший за хлебенной коркой и оставшийся рядом с бобылем, чтобы разбавить его тоску и скуку? Но удивительно, что именно в годы разладицы и разрухи все жители мира зазеркального вдруг вернулись на землю, чтобы замутить разум и лишить его простоты. Все эти обавники, знахари, ведьмы, и колдуны, и чаровники притащили за собою всяких кикимор, и чертушек, и берегинь, и русальниц, баннушек и хозяйнушек, чтобы своим присутствием скрепить порвавшуюся нить между жизнью прежней и новой. Все соединилось за какие-то дни – и западня, внезапное улово посреди ровного места на хожалой тропе, и ворожейное слово бабы Мани, и неведомая скотинешка из нижнего мира.
Братилов встал на колени, пошуровал ухватом в подпечке, посветил фонарем, но ничего, кроме тлена и разора, не увидал в дыре: ни проточины, ни норы, ни тайного пролаза, словно бы неведомая зверушка утянулась прочь сквозь толстые плахи, из которых и был сбит подпечный ящик. Тогда Братилов выбежал из дома, чтобы на воле настичь пришлеца, но того и след простыл. Незваный гость выткался из неведомого мира, из Зазеркалья, и снова навсегда пропал? иль затаился в глухом углу, чтобы являться по ночам, завивать волос в кудрю, сбивать в ком простынку иль щекотать пятки? А может, всегда жил в схоронке и только нынче зазевался и вовремя не унес ноги? Братилов обошел свою боковушку, осмотрел, как надзиратель, подопечную камеру; бобылий угол уже почти встал на колени, смирился с подневольной участью, и, братцы, сколько же здесь обнаружилось вдруг мышиных троп, крысиных прогрызов и скрадов; тут и лисе впору ходить на ночевую иль гоститься, если бы торчал рядом курятник и было кормилище. Нижний венец изъела ржа, опорные стулки издрябли и покрылись пеною; и только сейчас понял Братилов неизбежность конца, и как скоро, оказывается, он подпирает, этот исход, как упрямо подталкивает под подушки, чтобы человек не упирался на миру и вместе со своим убогим житьишком убирался прочь с земли.
Но хозяйнушко, которого сыскивал художник, не показался на глаза, а соседская половина стояла за дощатым забором, унизанным обрубленными гвоздями и обросшим понизу всякой садовой чертополошиной, с которой старый человек невольно в ладу, устав с нею ссориться, и принимает ее право на жизнь. Братилов приник к штакетинам, сквозь проредь высматривая меж смородой и крыжовником зверуший ход; досчатые планки были покрыты малахитовой зеленью, словно бы и здесь любовно поработала художная рука. «Тлен, оказывается, имеет свои украсы, одеваясь в цветистые зазывные одежды, – вдруг подумал Братилов, скоро отвлекаясь от досмотра. – И смерть вот облекается в нарядные пречудные одежды». Братилов зачарованно вглядывался в накипь пушистого мха, скоро изъедающего вещные приметы бытия; вот-вот повалится огорожа, изопреют в труху столбушки, и по этому праху обильно высыплет злая жирная крапива. На штакетинах лежал узор, похожий на татуировку; паутина трещин, эти морщины неизбежной старости, тоже высекалась по неведомому рисунку художного мастера смерти, и, блуждая по этому лабиринту, взгляд невольно упирался в неизбежный тупик. Склячив спину, исследуя грядущий путь, торчал Братилов у забора, бесслезно оплакивая свою незадавшуюся бобылью судьбу. И тут в горбину шаловливо постучали кулачишком, будто по хребтине пробежала вернувшаяся в дом зверушка.
– И что в горбу? Денюжки. Кто скопил? Дедушка. Давай на двоих?
Братилов вздрогнул от родного голоса, не веря ушам своим, обернулся. Братцы мои, в какую красавушку провернулась недавняя белая мохнатая зверушка-домовушка, хранительница очага. Глаза не отвесть. А простые проговористые деревенские словечки были кинуты так тепло и открыто, что сердце сразу екнуло и провернулось в своем лежбище. Господи, ослепнуть же можно!
Если возможно пожирать глазами, то Братилов воистину в один дух поглотил видение взглядом, и только от одного этого восторга Миледи невольно обомлела. Ее еще никто так открыто не любил, так не истаивал от счастия, словно бы перед Алексеем выросла из куртинки ивняка и багульника сама Пресвятая Богородица, ибо нет под небесами по всему белу свету никого любимее Божьей Матери. Миледи вдруг смутилась, зачастила, необязательными словами укрепляя мостик, однажды порушенный ее всполошливым норовом.