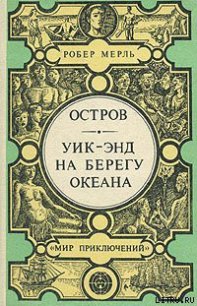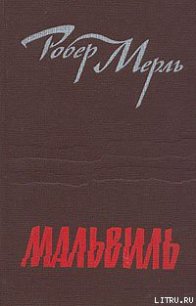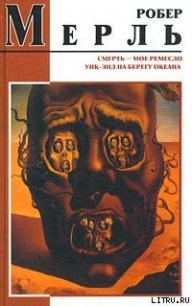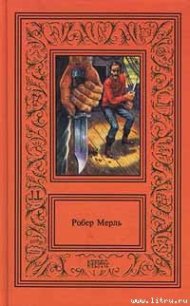За стеклом - Мерль Робер (онлайн книга без txt) 📗
Тот не стал тратить время на формулы вежливости:
– Ну как там?
Божё помолчал, прежде чем ответить.
– Я как раз звоню, – сказал он неторопливо, – чтобы дать тебе обо всем отчет. События разворачиваются без особых осложнений. Они оккупировали зал Совета, смирно расселись в креслах и дискутируют. Немножко более шумно, чем мы на своих собственных заседаниях, и язык не столь академичен, но погромом не пахнет. Пока никаких разрушений. Дюжина «аполитичных» анархистов намеревалась завладеть нашей посудой, но была предана позору и изгнана. Что до Кон-Бендита, то он играет – или делает вид, что играет, – роль умеренного начала Афинской республики. Своего рода Перикл, переряженный Дантоном, если ты позволишь мне такое смешение эпох,
– Все-таки, – сказал Граппен, – нет никакой уверенности, что они не примут решения разойтись по этажам, взломать двери и уничтожить архивы.
Божё помолчал, чтобы придать больше веса тому, что он намеревался сказать,
– Это, конечно, возможно, все вообще возможно, но я не думаю, это запятнало бы их собственный образ, как он им видится. Не будучи левым, – продолжал Божё (Граппен у трубки поджал губы: камешек в мой огород. У них с Божё давно сложились отношения дружбы-соперничества, соперничества почти бессознательного, поскольку заместителя принято подозревать в желаний унаследовать место декана), – я не питаю никаких симпатий к взглядам, которые они отстаивают, но меня, признаюсь, поразила их серьезность. Они явно заняты преобразованием мира и переписывают заново историю,– короче, у меня создалось впечатление, что они воспроизводят одну из славных сцен Великой французской революции, – ночь на 4-ое августа или клятву в Зале для игры в мяч, – не знаю, насколько тебе ясна моя мысль.
– Ты что, смог присутствовать при дебатах? – изумился Граппен.
Божё кашлянул.
– Не долго. Некоторых мое присутствие оскорбляло, да и с меня самого было довольно, я ушел.
«Это значит,– подумал со смешанным чувством Граппен, что он дал себя выставить». Но вслух он слова Божё никак не прокомментировал. Только сказал после паузы:
– Мне звонили по поводу Н… Как он?
– Врач только что вышел от меня, – сказал Божё, – цитирую: состояние критическое, от прогнозов лучше воздержаться.
Наступило молчание. После январских событий («Граппен – наци»), телефонной травли, тягостных треволнений и бессонных ночей Граппен ощущал себя постаревшим, иссякшим. Он страдал не от какого-нибудь определенного недуга, но от постоянного ощущения собственной изношенности, точно в течение последних месяцев он извел десять лет жизни, истратил десятилетний запас жизненных сил. С утра до вечера его преследовало чувство, что ему физически не по силам эта работа – работа, к которой он так энергично и уверенно приступил всего четыре года назад. Никаких действительно тревожных симптомов не было, но все чаще давила усталость и, главное, не покидало ощущение собственной хрупкости, уязвимости, упадка сил, точно какие-то перебои в сети ослабили напряжение тока и его не хватало, чтобы Граппен мог двигаться вперед и продолжать жизнь.
– Это ужасно, – сказал он в трубку. – Бедный Н…, надеюсь, он выкарабкается, было бы, на самом деле, чудовищно умереть при таких обстоятельствах, тем более, – добавил он, как бы обороняясь, – что он еще не стар, не помню точно, но он нашего возраста, что-то между пятьюдесятью и шестьюдесятью.
Божё на другом конце провода молчал, замечание Граппена было ему неприятно, напоминало о собственных страхах. Потом он повторил тихо, суховато:
– Да, это было бы чудовищно, – и тут же добавил своим обычным, сильным голосом, четко артикулируя: – Итак, я продолжаю, по возможности, следить за тем, что происходит на восьмом этаже, сохраняю соприкосновение с противником, как выражаются на военном языке. Я тебе позвоню, ну, скажем, через час, а если будет что-нибудь новое – раньше.
Он повесил трубку, взял сигарету из пачки и снова, после некоторого колебания сунул ее обратно. Две недели назад, выступая по телевидению, Морис Дрюон сказал: «Теперь, когда я прожил половину жизни». По окончании передачи Божё встал со своего кресла и поискал в «Who's Who in France» [64] (неизменная любовь к точному факту) год рождения Дрюона, ага, вот – 1918; ему пятьдесят, следственно, «половина жизни» – успокоительное смягчение, литературщина и ложь. Пятьдесят лет – это не половина, скорее две трети, если только не надеешься дожить до ста – надежда, конечно, приятная, но статистически не слишком обоснованная. А когда я думаю о годах, мне всегда приходит на ум, в известном смысле даже преследует меня, бальзаковский образ шагреневой кожи. Помню, читая эту книгу, я переживал вместе с Рафаэлем чувство ужаса, обнаружив, что талисман, символизирующий его существование, съеживается при каждой желании. Но на деле, жизнь изнашивается не от желаний, она иссякает, даже если ничего не желать. Тридцать лет, сорок, пятьдесят. И поразительно, что на каждом повороте время приобретает трагическое ускорение. Хочется закричать: остановись, остановись, не беги так стремительно! Вот уже две трети жизни позади! Божё встал, поглядел на часы, прошелся по комнате, ну и ну, веселенькие у меня мысли, нечего сказать! Не дешево мне дается это студенческое движение протеста! Он чувствовал усталость, но в то же время сам не доверял этому ощущению. Усталость, в сущности, нередко своего рода пассивное сопротивление все возрастающему бремени ответственности. Пойду несколько минут послушаю музыку, это мне будет полезно. Он улыбнулся. Как выражается один из персонажей Сартра, я не развлекаюсь, а «отвлекаюсь».
II
В аудитории Б-2 – огромной, на три четверти заполненной и выглядевшей как настоящий театральный зал, – ассистент Дельмон выбрал место на ближайшей к правой двустворчатой двери скамье, чтобы выйти, никого не тревожа, если концерт ему прискучит. Он не был меломаном, но всегда интересовался музыкой, подходя к ней осторожно и опасаясь неискренних восторгов. Последняя вещь первого отделения ему понравилась, и он решил остаться на второе, но в антракте вместе с шумом и разговорами в его сознание, уже не занятое музыкой, вновь вторглась сумятица забот: столкновение с Рансе, перспектива вылететь из Нантера без всякой уверенности, что он будет подобран Сорбонной, и, главное, диссертация, которой не видно конца, которую он тянет уже десять лет, поскольку у него все не было возможности вплотную засесть за нее, все его время сжирали ассистентские обязанности, семь часов семинарских занятий, проверка студенческих работ, все более и более трудоемкая, транспорт да еще всевозможные административные нагрузки, навязываемые Рансе. Работать над диссертацией фактически удавалось только в летние каникулы, а нужно ведь и жить когда-нибудь, да и не такая уж это легкая жизнь, когда у тебя жена, двое ребят и всего 2500 франков в месяц. Ох, не щедро платят преподавателю без степени! Даже с десятилетним стажем. И кому только нужны эти литературоведческие диссертации. Нигде, кроме Франции, от тебя не требуют этого громоздкого кирпича – от 500 до 1000 страниц, – монументального и всеобъемлющего, своего рода «шедевра», который требовался в Средние века от подмастерья для вступления в цех, этакого «opus magnum», поглощающего четверть жизни, где, чтобы исчерпать тему, ты должен исчерпать себя (Дельмон отметил про себя точность этой формулировки). И при этом над тобой воздвигнута пирамида бонз, тебя душит монархический гнет заведующего отделением. Странно, я так и не могу понять до конца, сожалею я о том, что толкнул Рансе, или радуюсь этому, есть в этом акте некая двусмысленность («двусмысленность» – было одним из излюбленных словечек Дельмона). Я сделал это не преднамеренно, но и не случайно, собственный жест сначала удивил меня самого, а потом привел в восторг. Значит, в моем поступке все же прорвалась жажда раскрепощения. Любопытно, что она долго и бессознательно накапливалась во мне, а вырвалась наружу в общем как следствие моего соприкосновения со студенческим бунтом: мы, конечно, ближе к студентам, чем профы, и по возрасту, и по положению, главное, мы, как и они, страдаем от произвола вышестоящих и точно так же лишены права голоса, отстранены от руководства Фа-ком. Это, в сущности, и сближает нас – наше в равной мере подчиненное положение по сравнению с переходящими всякие границы привилегиями бонз.
64
Кто есть кто во Франции (англ.).