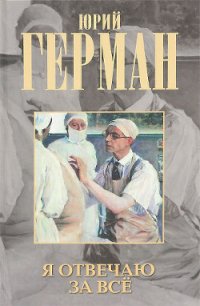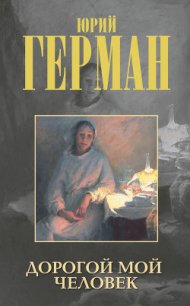Дело, которому ты служишь - Герман Юрий Павлович (бесплатные полные книги TXT) 📗
– Все-таки это немножко отдает шарлатанством! – сказал Володя Богословскому. – Ну – бронхиальная астма, ну – адреналин, так ведь...
– Помолчите, – сказал Богословский.
Что-то происходило интересное. Непрестанно болтая, старуха поднялась и схватила блюдечко со сгущенным молоком у деда Абатая. У нее теперь было очень сердитое лицо. В мужской палате все смотрели на нее со страхом. Потом старуха Опай вылизала блюдечко и, победно сверкая глазами, ушла из больницы. А деду Абатаю «мадам повар» принесла другое блюдце, полное до краев, потому что он едва не плакал, когда Тод-Жин стал стыдить его за сплетню насчет яда и человеческого мяса.
– Завтра мы сделаем несколько маленьких чудес, – уютно посмеиваясь, сказал Богословский, – а там, попозже, вам, придется, дорогой Владимир Афанасьевич, поработать без чудес. Но работа у вас будет – за это я вам ручаюсь...
Тод-Жин стоял у черного промороженного окна в коридоре и курил свои сигареты. Внезапно он повернулся к Богословскому и сказал жестким, напряженным гортанным голосом:
– Я хочу поблагодарить тебя, товарищ, да, поблагодарить за радость, за то, что ты рад. Это не я благодарю тебя, это благодарит наш народ, да, благодарит, хотя еще не понимает, но поймет. И тебя, товарищ, – он повернулся к Володе, и Володя с изумлением, счастьем и любовью увидел, что в глазах орла кипят слезы, – и тебя за то, что ты понимаешь, и еще сделаешь, и будешь...
Он повернулся и ушел куда-то далеко, в самый конец коридора, а Володя и Богословский еще долго сидели молча.
– Ну ладно, – сказал наконец Богословский, – утро вечера мудренее. Прикажите вашему Санчо Пансе заняться стерилизацией к завтрему. Пораньше оперировать начнем.
– Кого первым?
– Да что ж... сделаем, пожалуй, грыжу.
– А если до начала операционного дня я начну промывать серные пробки деду Абатаю, как вы считаете, Николай Евгеньевич? Слышать он станет сразу лучше, настроение еще поднимется в палатах?
Богословский усмехнулся:
– Что ж, попробуйте!
В семь часов утра Володя вызвал Абатая в приемный покой. Николай Евгеньевич еще спал. Посеревший от работы Данзы (он всю ночь возился с биксами – стерилизовал) стоял торжественно в белом халате, в шапочке – ни дать ни взять тоже доктор. На столике голубым пламенем горели спиртовки. А на Володю старик даже и смотреть поначалу не смел – так величествен был этот русский: и халат, и шапочка, а на лбу – круглое, сверкающее, невероятной красоты зеркало, приделанное к голове, наверное в честь старого Абатая. Вот взглянула бы невестка, как бы она теперь зауважала старика.
– Как себя чувствует ваш скот? – вежливо начал беседу Абатай.
Данзы перевел, что скот русского доктора чувствует себя отлично. А как чувствует себя скот дедушки Абатая?
Тут Абатай замялся. Сказать, что его скот тоже хорошо себя чувствует, было опасно – вдруг русский схитрит и потребует плату, как шаман или лама. А чем платить? Сказать же громко, что никакого скота у него не было, старик считал для себя унизительным. Поэтому он только вежливо покашлял. Не поймаете! Никто теперь не сможет утверждать, что у деда Абатая есть скот.
– Ну, хорошо! – сказал Володя. – Приступим!
Дед сел на табуретку, шею ему повязали полотенцем. Великий русский доктор ловко, щипцами, вынул из сверкающей кастрюльки чудодейственный стержень, и очень скоро в ухе у деда Абатая стало тепло и славно, так славно, что старик даже зажмурился. Потом и в другом ухе тоже стало тепло. А спиртовки все горели, и это было похоже на жертвенный огонь, только гораздо красивее, и Самоглавнейший Советский Шаман все сверкал своим зеркалом, наверное отгоняя им от деда злых духов: чертей «аза» и «кай-бын-ку».
Одно только мучило деда, что никто не видит, как его ошаманивает русский доктор. Никакой лама так не умеет, никакой шаман! Если бы еще русский хоть немножко поскакал и побил в бубен, тогда, может быть, другие больные проснулись бы и пришли.
– А в бубен бить? – спросил дед у Данзы.
– Молчи, дед, молчи, – строго ответил Данзы.
– Немножко бы хоть ударили, – плаксиво попросил дед. – Чуть-чуть. Я белку подстрелю, принесу.
– Не мешай доктору, дед!
– И соболя принесу.
– Говорю, не болтай!
И вдруг дед понял, что слышит гораздо лучше, чем раньше. Данзы ведь не кричал, он только говорил, и негромко говорил, а дед слышал все его слова.
– Ой! – воскликнул дед. – Я слышу! Ой!
Володя осторожно и методично что-то делал в другом ухе. А когда он вынул вату, дед стал слышать еще лучше.
Мады-Данзы важно перевел:
– Завтра, когда товарищ русский доктор и я еще полечим тебя, ты начнешь слышать так хорошо, как здоровый ребенок. Иди, дед. Отдыхай!
Володя снял с головы свое прекрасное зеркало, и дед совсем загордился: значит, действительно зеркало надевалось только для него. А Данзы погасил спиртовки: значит, и спиртовки горели для Абатая. Ну и ну! Нет, конечно, такое удивительное лечение не могло обойтись даром, и дед предупредил:
– Но ведь я бедный человек!
– Это нас не интересует! – сказал важный Данзы.
– Я ничем не могу отблагодарить!
– Ты можешь поклониться доктору, большего от тебя не требуется.
Абатай, кряхтя, поклонился. Потом все замелькало перед ним – уж кланяться так кланяться, с него не убудет. И он кланялся до тех пор, пока Володя не схватил его за плечо и не закричал, что он этого не потерпит. Старик вздохнул, глядя на Володино красное, сердитое лицо. Наверное, все-таки требует коня, или олешек, или овец. И наверное, сейчас выгонит вон из больницы. Но никто деда никуда не выгонял. Наоборот, он принялся за завтрак – за прекрасную кашу, за лепешки с чем-то липким и сладким, за чай с молоком. А проснувшиеся соседи расспрашивали его нарочно тихими голосами, и он, не торопясь, важно отвечал. Пусть помучаются, не все сразу, понемножечку...
В девять Николай Евгеньевич начал мыть руки. И на нем, и на Устименке, и на Данзы были надеты теперь придуманные Володей и сшитые «мадам повар» длинные пиджаки из клеенки, поверх которых натягивались сырые халаты. При Володином способе стерилизации халаты и все прочее необходимое для операции получалось сырым.
– Оперировать будете вы, – сказал Богословский. – Я нынче и ассистент, и операционная сестра.
Саин-Белек лежал на операционном столе испуганный, словно заяц, поводил носом, ворчал и жаловался Мады-Данзы:
– А почему доктор не привинтил к своей голове круглое зеркало? А почему для меня зеленые огни не зажгли? Разве я хуже деда Абатая? Дед Абатай – нищий, только-только не с сумой побирается, а я, если захочу, и баранов могу подарить этим докторам. Пусть привинчивают зеркала, скажи!
Грыжа была двусторонняя, громадная и, конечно, невправимая. Володя стоял раздумывая. Богословский делал местную анестезию.
– Ну как? – спросил он.
– По Спасокукоцкому.
– Это разумеется, – улыбнулся Богословский. – Нет бога, кроме бога, и Магомет – пророк его.
– А что, – с вызовом ответил Володя. – Для меня Спасокукоцкий – истинное чудо и как клиницист, и как хирург, и как просто практический врач.
Он взял из руки Богословского скальпель и сделал разрез на палец выше паховой складки. Обнажился апоневроз наружной, косой мышцы живота. Мады-Данзы слабо охнул, увидев кровь, и стал пятиться к двери.
– Вернитесь на свое место! – велел ему Богословский. – Слышите, вы?
Володя рассек подкожную клетчатку и фасции Купера. Николай Евгеньевич ассистировал молча, не руководя и только пристально всматриваясь. Кровь он убирал быстро и необыкновенно ловко. Саин-Белек иногда стонал, порой пускался в рассуждения, но тотчас же забывал, о чем вел речь.
– До сих пор помню фразу из учебника, – сказал Николай Евгеньевич: – «Накладывают на срединный лоскут апоневроза, как борт сюртука на другой борт, и пришивают к нему».
– И пришивают к нему, – повторил Володя, осторожно натягивая лигатуру. Он чувствовал, что операция сделана хорошо, и испытывал состояние радостного возбуждения.