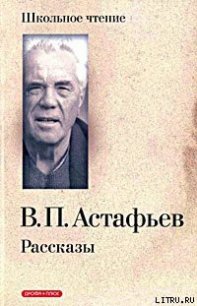Плацдарм - Астафьев Виктор Петрович (лучшие бесплатные книги .TXT) 📗
Наступил час той расслабляющей усталости, отъединенности от мира и войны, когда все человеческое в человеке распускается, будто в цветке — до последнего лепестка. Час, когда действует разведка и просыпаются повара, моют кухню, наливают воду, делают закладку крупы, картофеля — для варева. Взлетели ракеты одна за другой. «Наша разведка у немцев шарится», — порешил Лешка. Отсветы ракет достигли почти уже разобранного блиндажа. Вот коротким, электросварочным замыканием мелькнуло, замерцало, высветило в кучу свалившихся людей, на мгновение вырвало разложье речки, пологие мысы на ее слиянии с рекой. Еще недавно были они круты, угласты — срубило взрывами мысы, стоптали их, спустили обувью солдаты. Стараясь уберечь свое тепло, Лешка засунул руки в рукава. Печку топить было нечем, да и выходить под дождь, как бы растворившийся в воздухе, кисельно зависший над землей, было выше сил.
Погасла ракета, после нее еще плотнее накрыло теменью все вокруг. Лишь в районе высоты Сто, у Щуся, вдруг испуганно залился дворовой собачонкой пулемет, ему откликнулось несколько пулеметов, — и малого отсвета ракет, пробивающегося под навес и в проем, где недавно еще стояли косяки и двери, хватило, чтобы заметить, что вычислитель Карнилаев не спит. Сполз к погасшей печке, прислонился спиной к земляной стене, смотрит перед собой круглыми очками с ломаной-переломаной серебряной оправой. Жутко от его взгляда.
Пулеметы в районе высоты Сто унялись, зато потревожились Великие Криницы. Стрельба там поднялась. «Хорошо хоть, что успели покойных унести», — подумал Лешка.
— Ты че? — разжал губы Лешка. — Че не спишь, Карнилаев?
Вычислитель не отзывался и не шевелился. Весь взвод управления артполка знал, что Карнилаеву изменила жена, спуталась с военпредом на заводе. Карнилаеву сочувствовали, предлагали не падать духом, дождавшись конца войны, вернуться домой, припрятав трофейный пистолет, порешить любовников на глазах трудящихся автозавода. Можно быть совершенно уверенным — утверждали вояки — ему ничего не будет за такую священную месть. Но были и те, что презирали Карнилаева, прежде всего Шорохов. — «Из-за бабы, сучки, страдать! Вот она, гнилопупая интеллигенция, чего делат!»
Парни-юноши, многие из которых еще даже и не целовались с девчонками, — решительны и непреклонны в своем мужском суде! Они просто воспринимают человеческие взаимоотношения: прав — виноват, начальник — подчиненный, счастье — несчастье…
В общем-то в простоте этой и есть, видимо, суть жизни, остальное домыслы, полутона, плутовство, которыми так ловко люди научились перетолковывать и заменять вечные истины: «Не укради, не пожелай жены ближнего своего…»
«Замечал ли он, Карнилаев, за бабой своей?»
Она еще на втором курсе политеха влюбилась в преподавателя института и забеременела от него. Был студенческий скандал. Борцы за идейную чистоту своих рядов преподавателя согнали с работы. Затем был студент-старшекурсник, инженер-конструктор автозавода, какой-то хохлатый тенорок из оперы и молодой, но уже лысеющий поэт, называвший себя «ииком» [2].
Солдатики, конечно же, представляли изменщицу неотразимой красоткой, но она обладала всего лишь кокетливо-игривым нравом, опереточным, даже скорей птичьим, обаянием. И этого вполне хватало для таких простаков, как Карнилаев. Женщина эта твердо знала старую истину: мужчине надо постоянно твердить, что он хороший, умный, что лучше него в ее жизни никого еще не было…
Круглолиценькое существо с недоуменно оттопыренными губками, в кудряшках, небрежно раскудахтавшись, с прирожденными способностями к наукам, болтающее по-французски, впрочем, с ужасным произношением, она еще на первом курсе закрутила Карнилаеву мозги своим романтически-беззащитным видом, но держала его про запас. Когда наступил крах ее личной жизни, она приползла к бедному, голоштанному студенту, подающему большие надежды. Недоучившаяся, с поврежденным здоровьем. Мать с отцом наотрез отказались принять в дом эту, довольно известную в автозаводском районе, особу. И тогда он, очкарик, послушный сын, примерный ученик, саданул дверью родного дома, заявив, что любовь превыше всего.
И вот, спустя всего лишь четыре месяца после того, как он со скандалом и шумом снялся с брони, отбыл на войну, письмо от родителей, сначала торжествующе-злое, затем с мольбой, чтобы сын не воспринял весть о жене как катастрофу, не впал бы в отчаяние. «Этого следовало ожидать!» — такими словами заканчивалось письмо и знаком восклицания.
Банальная история, мелконькая-мелконькая драмочка по сравнению с тем, что происходило на фронте, что успел повидать и пережить Карнилаев. Зачем же восклицательный знак ставить? Надо посоветовать родителям прочесть стих Константина Симонова о современной женщине и попросить их не забывать, что Бог велел всех прощать и прежде всего заблудшую женщину. Он расскажет родителям про то, как в окопах стираются грани между добром и злом. Зло делается большое-большое — аж до горизонта, добра же совсем-совсем маленько, зеленая поляночка среди выжженного леса — но, чтобы ожил лес, полянку ту надо беречь, ой, как беречь — с нее начнется возрождение всей тайги. Карнилаев умиленно всхлипнул, перешагивая через спящих, вышагнул из-под навеса, долго протирая очки, незряче уставившись за речку Черевинку.
— О, русская земля, ты уже за холмами, — водрузив очки и разглядев дальний, дни и ночи не гаснущий пожар, сказал он.
— Эй ты, поэт, хворостину принеси, — шумнул на него Шорохов, выползший из тьмы менять телефониста.
— Нету. Все сожгли.
— Наломай.
Часовой в отдалении отчетливо сказал:
— Стой! Кто идет?
Оказалось, из батальона Щуся командир роты Яшкин и его сопровождающий боец медленно спускаются к речке, ищут фельдшерицу Нельку. Часовой объяснил им, как идти дальше.
— Тут совсем недалеко, — заключил он. — Не отпускайтесь от ручья.
Взяв автомат наизготовку, — самый глухой час прошел — бойся всякого куста, часовой помог Карнилаеву наломать чащи — возле блиндажа все уже было выломано и сожжено.
Шорохов ворчал — чаща сырая, матюгнул еще раз — для порядка очкарика Карнилаева. Тот был к ругани привычен. На грязном, заплеванном полу, за печкой, натянув воротник шинели на ухо, успокоился очкарик. Переправлялся он позже — берегут ценный кадр, усмехнулся Шорохов, — в шинели потеплее все же, чем в телогрейке до пупа. Печка не разгоралась. Еще раз обматерившийся Шорохов произвел проверку — «Попробуй усни, падла!» — сказал заречному телефонисту и, прислонившись спиной к никого и ничего не греющей земляной стене, отдался отлаженно-чуткой дреме связиста, привыкшего полуспать, полузамерзать, полубдеть, полуслышать, полужить. «Может, пороху натрясти из патронов и все же зажечь хворост, — вяло размышлял Шорохов, — да побудишь всех шумом. Ну его! Бывало и студенее!»
Шорохов чувствовал себя на войне хорошо, ему все время казалось, что вышел он на дело и то лихое рисковое дело затянулось. Не отечественная тюрьма здесь, не советский лагерь, хоть частью себя и своего времени тут можно распоряжаться с пользой для себя, существовать и даже быть независимым хотя бы от окружающей тебя хевры. Не позволять только себе расслабляться, лезть на рожон, не писать против ветра, стало быть, не переть против начальства, — лица от соли не оближешь, сколько его тут, на фронте, особо подле фронта, начальства-то. А в остальном — живи — не тужи, не давай себе на ногу топор ронять, не соглашайся раньше времени пропасть — вот и вся наука. А ему пропадать нельзя. Он посулился выжить и достать того чубатенького, галифастенького, ласковенького полковника, что не за хер осудил его в двадцать первом полку, считай что на смерть. Много раз, многие мордовороты судили Шорохова, за многие провинности, за многие дела. И сроку набрал он много. И фамилия Зеленцов — была у него не первая, да и Шорохов — не последняя. Никогда у него не возникало желания подняться против темной силы, его сломавшей, корень его надрубившей, но вот чубатенький этот, говорунчик-побрякунчик, соединил в себе все лютое зло, с детства на Шорохова навалившееся, и пока он не наступит на горло, не оторвет тому злу, как болотной змее, седенькую головку — не будет середь людей на земле спокойствия и порядка, по Коле Рындину, — милосердия. Блажной мужик — Коля Рындин, но рек Божье, не то, что эти попки-комиссары: борьба, борьба, борьба… С кем? За что? За кого это они — сладкогласые — бороться-то призывают и заставляют? Для них! Во благо их! Поищите дураков — на Руси их завсегда и на всех хватало.
2
«ииком» — «лириком».