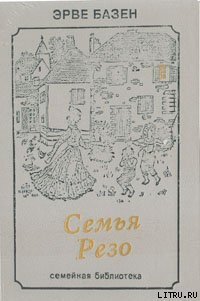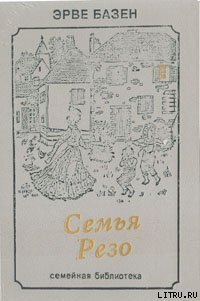Кого я смею любить. Ради сына - Базен Эрве (книги без сокращений txt) 📗
как в прошлый раз. А то на площадке после дождя настоящее болото. Ну, держись!” Скажи ему десятую долю
этого отец, и он показался бы сыну извергом. А про такого парня Бруно только скажет: “Силен!”
Командиров женского пола он просто пока сторонится. Он отыгрывается на более младших, они
чувствуют, чем вызвано его внимание, и потому оно не слишком им льстит, но все-таки придает, так же как и
ему самому, уверенности. Когда они всей своей разношерстной компанией, в которой случайно оказываются все
трое Астенов, прогуливаются по улице, можно не сомневаться, впереди всех будет живая, воздушная,
стремительная Луиза, рядом с ней ее подруги — Мари Лебле, Жермена и их эквиваленты мужского рода; следом
за ними будет шествовать затянутый в портупеи Мишель в сопровождении своей свиты, среди которой больше
предусмотрительных маменькиных дочек, нежели легкомысленных болтушек. Бруно же вместе с Ксавье и
маленькими нимфами, которые еще подкладывают себе грудь, будет замыкать шествие. Если даже он сумеет
вырваться вперед, ему в лучшем случае достанется Одилия, которой Мишель говорит “ты”, хотя она
обращается к нему на “вы”. Бруно же она говорит “ты”, а он путается в местоимениях, называя ее то “ты”, то
“вы”.
“Ты” побеждает довольно быстро, чему я, пожалуй, даже рад. Бруно лишен естественной
непринужденности, и ему необходимо развивать в себе это качество. Среди всех девиц, которые постоянно
толкутся у нас (большинство из них приятельницы моих старших детей), я предпочел бы выбрать, не показывая
вида, и тайком удержать для Бруно наиболее безобидных.
Июнь. Я слушаю Бруно, который старается уяснить для себя некоторые вопросы.
О чем мы говорили в тот раз? Кажется, о случайности, в которую может внести свои поправки закон
больших чисел. Он смеется и потом снова повторяет:
— Теперь мне ясно. Вот, например, ты мой отец, я твой сын, мы связаны, и здесь нет никакого
исключения из закона больших чисел. Но ведь в основе всего лежит чистая случайность: мы с тобой не
выбирали друг друга.
— Зато потом выбрали, — прошептал я.
А про себя подумал: “Человек никого и ничего не выбирает. Он или отказывается, или принимает: выбор
небогат”. Я не мог сказать этого Бруно. Действительно, мы не выбираем себе родителей, редко выбираем жен —
обычно их приносит нам случайная встреча, не выбираем детей — большинство из них родится из-за
недостаточной предосторожности родителей, и еще реже нам удается сделать, чтобы они выросли такими,
1 Положению служанки (лат.).
какими мы хотели бы их видеть. Вот почему так сложны и бессмысленны все семейные проблемы. Но не надо
разочаровывать новичков. Бруно и так не назовешь оптимистом. Как-то, прослушав зажигательную речь
Башлара (а он был мастер их произносить) о возможностях современной молодежи, о тех преимуществах,
которые у нее имеются по сравнению с нашим поколением, Бруно, вернувшись домой, сказал мне:
— Согласен, возможности у вас были куда более ограниченны, зато вы знали, чего хотите в жизни.
И когда я попытался возразить, сказав, что в конце концов каждое поколение находит себе спасительный
якорь в какой-нибудь идее, Бруно прибегнул к такому сравнению:
Я не хотел бы тебя обидеть, но ведь нам очень нелегко жить на свете после вас. До чего же вы сумели
перепутать все идеи! Словно провернули их через мясорубку. Это напоминает мне одно Лорино блюдо, когда
она так размельчит, так перемешает разные овощи, что невозможно понять, что ешь.
У него нет особой страсти к гносеологии. Однако он никогда не откажется поспорить на философские
темы (он называет это “разглагольствованием”), что невозможно, например, с Мишелем, который так
категоричен в своих взглядах, или с Луизой, которая находит эти отвлеченные проблемы скучными и
совершенно бесполезными. (Для нее то, что не связано с красотой, модой и удовольствиями, называется “все
остальное”, и она предпочитает не касаться его. Философия для нее все равно что филателия. Конечно, есть
прекрасные марки, но она не коллекционирует их.) Бруно охотно высказывает свое мнение, причем он никогда
не считает себя умнее остальных — в этом он похож на меня, но некоторые его мысли меня просто сбивают с
толку. Я и раньше заметил это по своим ученикам: все реже сталкиваешься с лицемерием у молодого поколения,
этот вирус постепенно уничтожает какой-то новый антибиотик, растворенный в их слюне, подобно тому как
пенициллин окончательно побеждает сифилис. У Бруно есть свои представления о совести (и еще какие!), но
они не совпадают с моими. У него свои моральные устои, но внешняя сторона дела для него не имеет большого
значения.
— Ты слышал? Скорняк с улицы Жан-де-Шелль женился на дочери своей служанки. Он на тридцать лет
старше ее, но зато у него тридцать миллионов, вот черт! Быть шлюхой — это полбеды, можно сменить ремесло.
Но вот так продаться на всю жизнь, да еще по закону — это уже совсем невесело.
Никакого бунтарского духа, но и никакой покорности. Он мало что уважает, но мало чем и возмущается.
Жизнь то, что она есть — она не так уж хороша, жаль, конечно, но ничего не поделаешь. История — машина,
фабрикующая глупость и злость: новейшая история это доказывает достаточно наглядно; но годы, которые
Бруно не довелось пережить, вызывают в нем не больше и не меньше ужаса, чем ассирийские зверства,
злодеяния Нерона или Варфоломеевская ночь. Для него, так же как и для Луизы с Мишелем, прошлая война не
тема для разговора; кто говорит о ней — выдает свой возраст. У нас были убитые на войне — обнажим головы.
И больше ни слова. Отстранимся. И в этом отстранении — неприятие: это его не коснулось, он не безумец, он
отвергает такое наследство. И действительность не заставит его отречься от своих взглядов. О человеке,
который добровольно завербовался в армию и дал себя убить, Бруно без всякой жалости, но и без презрения
скажет:
— Ненормальный какой-то.
А про великолепного Мау-Мау, который в соревнованиях на приз газеты “Франс суар” потрясал своим не
менее великолепным дротиком, он скажет:
— Это вместо того, чтоб тренироваться по-настоящему и взять семидесятипятиметровку!
Спортивные соревнования — убежище мирных людей. Пусть показывают свою силу на аренах. Там
американцы могут “пустить кровь” русским или наоборот. Вот когда загорается мой миролюбивый сын! Если
по телевизору вечером передают американскую вольную борьбу — кэтч, он буквально рычит, следя за
сплетением двух волосатых, вспотевших тел, за клубком, в котором уже невозможно различить, где змея, а где
Лаокоон.
— А ну, вдарь ему, вдарь!
Казалось, заговаривать с ним после спорта о живописи и литературе было бессмысленно. Однако о
хорошей картине или о книге, которую он прочел одним духом, Бруно коротко скажет:
— Сила!
Мои тридцать учеников научили меня понимать, что значат эти слова в современном языке, и я горжусь
вкусом Бруно, так как знаю очень образованных людей, которые подолгу изучают что-то, разбирают свои
впечатления с осторожностью врача, выслушивающего сердце больного, и все-таки ошибаются чаще, чем он,
хотя и пользуются стетоскопом.
Г Л А В А X V I
Четырнадцатое июля. Мы должны были уже уехать, но Луиза освободилась только тринадцатого, и из-за
нее мы задержались. Мы укладываем чемоданы, готовясь к отъезду. Один в своей комнате, я собираю вещи.
Через открытое окно порывы ветра доносят до меня издалека паровозные гудки и патриотические марши,
которые играет военный оркестр у памятника в парке мэрии. В коридоре кто-то тащит большую плетеную
корзину. Я слышу, как Бруно возмущается:
— Ты что, не могла меня позвать?
Громко смеясь, не знаю уж почему, он сбегает по лестнице. И этот беззаботный, полный детской