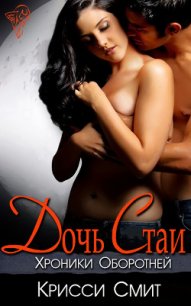Как быть двумя - Смит Али (бесплатные полные книги txt, fb2) 📗
Но ведь Он и Его слуги уже знают все это, оттого и нет смысла об этом писать в моем ходатайстве, которое на самом деле есть не что иное, как нытье и ропот, и, возможно, мне следовало бы с этим смириться.
Ведь я знаю: это не ад, мне здесь всего лишь загадочно, но я не чувствую безнадежности, и меня сюда отправили для какого-то хорошего дела, хотя ныне я еще ничего об этом не знаю: в аду нет никаких тайн, потому что где тайна — там рядом и надежда: мы следовали за прекрасной дамой, пока она не подошла к двери какого-то дома, вошла, закрыла ее за собой и оставила парня, которого так и не заметила, снаружи, после чего он (и я) вернулись к низенькой каменной ограде на другой стороне оживленной улицы и расположились так, чтобы нам была видна закрытая дверь, и там мы ныне пребываем: хоть я и заметила, пока мы шли, — не заметить это было просто невозможно, — что эта женщина, в которой есть и красота, и грациозность, к сожалению, имеет походку, как у лебедя, который оказался не в своей стихии, или как у птицы, привыкшей порхать, а теперь вынужденной идти, и эта неустойчивая походка до того не идет к ее красоте, что вызывает к женщине какую-то теплую приязнь, словно облегчающую, смягчающую ее красоту: если бы у меня сейчас были бумага и ивовый уголек (а еще руки, или хотя бы одна рука), я бы показала ее под неожиданным углом, какую-то простоту, телесную форму, человека, который кажется несколько неосведомленным о том, что происходит вокруг, и от этого даже более красивого и привлекательного, и у меня было много времени и возможностей, чтобы обдумать и спланировать это, поскольку мы долго шли за ней, и если бы у меня было тело, я бы устала — так что совсем неплохо, что у меня нет ног: но у этого парня изрядная выдержка, и он, при удаче и справедливости, проживет долго, думала я, пока мы шли: а потом я почувствовала, как в нем все оборвалось, когда женщина подошла к какому-то крыльцу, поднялась по ступеням и вошла в дверь, а потом закрыла ее за собой и
(уух-х)
Это было, как удар в живот, — дверь, захлопнутая перед юношей, который ею одержим.
Быть тем, кто что-то изображает — это дело чувства: ведь все вещи и существа, даже воображаемые и давно исчезнувшие, имеют сущность: нарисуйте розу, монету, утку или кирпич — и почувствуете, что у этой монеты есть уста, и она рассказывает вам, каково это — быть монетой, что роза повествует о своих лепестках, чья мягкость и влажность содержится в тончайшей оболочке цвета, более тонкой и чувствительной, чем веко, а утка поведает о том, как она в объятьях мокрой воды умудряется сохранять тело под оперением сухим, а кирпич шершаво поцелует вам руку.
Этот юноша, чьей тенью по какой-то причине мне пришлось стать, узнал дверь, в которую ему нельзя войти, и оставаться рядом с ним в чем-то стало похоже на то, как бывает, когда находишь панцирь божьей коровки, которую поймал в свои тенета и съел паук, думаешь: вот оно, это славное создание, такое яркое, и на первый взгляд кажется, что оно занято своими делами, — тогда как на самом деле это всего лишь кожица, пустая оболочка, осадок грубых событий жизни.
Бедный мальчик.
К слову, хоть дома, перед которыми мы находимся, велики, хорошо ухожены и имеют множество этажей, в невысокой стенке, на которой сидит мальчик, каждый кирпич умоляет о любви: я это понимаю, как понял бы мой отец, который как раз сейчас перевернулся в гробу из-за своего запальчивого характера, и стучит в крышку, которой я его накрыла, чтобы кто-нибудь выпустил его из-под земли, и он бы переложил эту стенку заново: ведь если б умершим дали еще одну возможность, с их опытом и знанием о прошлом, то этот мир — или это чистилище, — был бы, по-моему, гораздо лучшим местом.
И я думаю, где же она — могила моего отца, да и моя собственная могила тоже, пока мальчик сидит лицом к дому женщины, держит перед собой свою священную вотивную[8] табличку и время от времени поднимает ее к небесам на протянутых руках — так священник поднимает хлеб Причастия, ведь в этом месте полно людей, у которых есть глаза, но они предпочитают ничего не видеть, говорят себе в руку, проходя мимо, и носят с собой собственные таблички — некоторые величиной с ладонь, некоторые размером с лицо, а не то и во всю голову, посвященные то ли святым, то ли Богу или Богоматери, и они смотрят, говорят, молятся на эти таблички или иконы, и все время держат их рядом с головой, поглаживают пальцами и смотрят только на них, что, должно быть, означает: их переполняет отчаяние, и им приходится постоянно отводить глаза от этого мира и поклоняться своим иконам.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Юноша держит ее в воздухе: возможно, молится. О! Что я вижу: на табличке возникает маленькое изображение дома и его двери: это, наверно, уподобляет такие вотивные таблички той коробочке, которую имел великий Альберти,[9] показывавший ее во Флоренции (когда-то и мне довелось ее видеть), когда глаз проникает в крохотное отверстие и видит там целиком уменьшенный далекий пейзаж.
Может, все, кто здесь находится, — художники, и теперь они блуждают по этому миру со своими новейшими орудиями?
Может, я оказалась в особом чистилище — для творцов…
но теперь парень рядом со мной снова ссутулился, окончательно пав духом.
Нет: эти люди не имеют того духа, который нужен, чтобы всю жизнь создавать картины.
Да ты взгляни, малый, — какая веселая вещь: весенние цветы расцвели в чем-то вроде ведра, которое висит рядом с дорогой на столбе.
А бывает ли весна в чистилище? И есть ли тут годы? Да, наверно: если в самой природе чистилища заложено обещание, что пребывание в нем рано или поздно закончится — когда его обитателей признают очищенными, значит, в нем должно быть что-то, чем измеряется время: но мне раньше думалось, что в таком месте должны звучать нескончаемые стоны и мольбы: да нет, чистилище вполне могло оказаться и чем-то похуже, ведь смотрите — здесь, по крайней мере, встречаются черные дрозды: вот один прямо сейчас выпархивает из-за живой изгороди и садится на стену, и клюв у него чудесного оттенка неаполитанской желтой, а вокруг глазницы — такая же светлая желтизна: дрозд замечает мальчика, взмахивает хвостом и возвращается в живую изгородь: и там, прячась в кустах, заводит свою песню: и разве это чистилище, а не старая добрая земля, если все так похоже на землю, и птичья песня, и все это вечное и неизменное совершенство? Здравствуй, птица! Я художник, мертвый (мне так кажется, хотя вспомнить собственную смерть я не могу), и меня за мои прегрешения, причиной которых стала гордыня, отправили в это холодное место, где нет коней, — чтобы невидимо, неслышимо и неощутимо, из-за спины, следить за этим юношей, за юношей, влюбленным, но той любовью, которой сопутствует только отчаяние.
Но что же это за мир такой, где нет лошадей?
Как можно путешествовать, если рядом нет существа, которое становится тебе верным товарищем, и каждая поездка с ним превращается в дело верности и доверия между вами, как и надлежит?
Когда я купила своего коня Маттоне, он носил какое-то дурацкое имя — Бедеврио? Этторе? что-то в таком роде, как в сказках о королях и их деяниях, или как иногда называют детей — Ланчелотто, Арту, Зербино — и коней так же, ей-богу: я купила его у одной владелицы полей под Болоньей, у меня были полные карманы денег после исполненного заказа, и к этим полям меня подвезли добрые люди на повозке с капустой: как только я увидела этого коня, то сказала: вот этот, цвета наилучшего камня, можно его испытать? Ой, да он необъезженный, сказала она, всех сбрасывает, просто наказание какое-то мне, никого к себе не подпускает: как приедет резник или цыган — его первого продам: его-то мне и надо, молвила я и вытащила из кармана кошель, и вместе с кошелем к моим ногам упали несколько зеленых листочков с повозки — это показалось мне доброй приметой: словом, она пошла на луг, поймала его, потратив на это полтора часа, и привела мне, у него были крепкие ноги, чистый круп, и от хвоста один изгиб шел прямо к бокам, под которыми билось сердце (ведь сердце тоже сплошь состоит из изогнутых линий), а когда я подошла взглянуть на его зубы, он позволил мне сунуть руку ему в рот: ой, да он никому такого раньше не позволял, сказала женщина, всех кусал: тогда она оседлала его, при этом поднялась настоящая буря — конь фыркал, пятился, брыкался: но едва я очутилась на нем, и когда снова села в седло после того, как конь в первый раз сбросил меня в хозяйском дворе, я ощутила: он чувствует все, что говорят ему мои руки, ноги и сердце, и понимает, что я не причиню ему вреда, а еще в те первые минуты он почувствовал: не только я стану для него постоялым двором посреди пустыни, но и позволю ему стать для меня тем же.