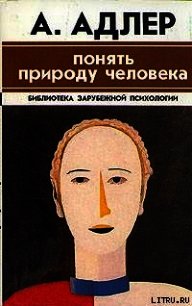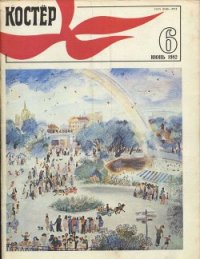Забавы Герберта Адлера - Кригер Борис (читать книгу онлайн бесплатно без .TXT) 📗
– Этот щенок так ничему и не научился… Всё о себе, о себе, о себе… Главное, чтобы только, не дай бог, не самоубился. Всё, что в нем есть человеческого, он считает болезнью… – вздохнул Герберт, а сам подумал, что вот она, изнанка его холста, только, похоже, если продолжать так жить, то от холста не останется ничего, кроме изнанки. Просто не надо было связываться с этим пасмурным и по-своему очень страдающим человеком. Он неизбежно втянул и Герберта, и всех его домашних в эти свои страдания, в грязь, в удушливость склоки, да, да, именно в столь не свойственное Герберту склочное перепихивание угрозами.
Где же произошла ошибка? Почему дочь не слушала его и Эльзу, когда они предупреждали ее год назад? А может быть, не нужно относиться к жизни, как к парадному холсту? Довольно! Это отношение – тоже наверняка несносная ошибка какого-нибудь перевода Новейшего Завета. Люди должны ошибаться, иначе невозможно себе представить никакой жизни, никакого развития, никакого движения… Пускай вся жизнь протекает в узелках холстовой изнанки; боль так же необходима, как и наслаждение, подлость, благородство, злоба, доброта… Не нужно искать идеального, чистого, незапятнанного – это все дурная иллюзия, упрямая ошибка толкования… Не совершив оплошность, не покаешься, а не покаявшись, так и останешься с зависшим на всю жизнь неприступно-белым, а потому неизбежно чужим холстом.
Часть 2
Плоскость шара

Одержимость нашей Вселенной, помешанной на шарах, перетекает в периодически одолевающие человека мысли, чувства и желания, которые неприятны ему и вызывают у него беспокойство, но от которых он никак не может избавиться. Шары, шары, шары… Человеку кажется, что сам он – шар, что друзья его – бильярдные шары, голова – арбуз, судьба – вот-вот собирающийся лопнуть мыльный пузырь, который вопреки всем колдовствам поверхностного натяжения существует только благодаря неизбывному энтузиазму варителей мыла. Человеку кажется, что он живет на шаре и что скользкая поверхность этой одутловатости постоянно пытается сбросить его в бездну. Бездна не так уж и страшна. Ведь бездна – это нечто без дна, а в падении самое страшное не сам факт полета, а именно неизбежность встречи с дном. Так что слава вам, бездонные бездны! Бездонность есть явление положительное, к нему следует стремиться, как к победе в конкурсе, в котором всякий человек может принять участие, независимо от страны проживания, – кто продержится на шаре дольше всех! Прыгающие повсюду шары нарушают в нас неподкупную веру в плоскостопие как универсальное средство выживания, как надежду на отмазку от службы в армии, как сифилитическую правду разухабистой личной жизни тех, кто круглее шара может представить только шар, кто уже не верит ни во что надежное и не скатывающееся в жадные недра пугающей гравитации.
Гербет Адлер был специалистом балансировать на шарах. Он мог даже спать, спокойно покачиваясь на непослушной глади шаровидной изогнутости. Такова была особенность его земного жизнепроведения. Он хотел бы философствовать и писать, забывая о главных горестях прожорливого человеческого тела, он хотел бы парить в парном молоке низкой облачности или, на худой конец, устремляться в то же самое небо, как устремляются увесистые стволы направленных в вечность деревьев. Герберт был человеком, не очень приспособленным к тягучей рутине.

Ему было физически больно от необходимости ограничивать себя в потратах, но с другой стороны, он и представить себе не мог, чтобы так запросто позволить паскудной материальности дыхательно-пищеутыркивающего процесса полностью овладеть его страстностью. Изредка и с весьма перекошенным лицом Адлер закатывал рукава и штанины и погружался в подробно булькающее дерьмо бизнеса, откуда извлекал презренные монеты, словно бы отобранные для того, чтобы служить идолом послушности булочно-кротовому инстинкту: стырил-затырил, стырил-затырил, стырил… и так до конца времен, до погружения в роскошную усыпальницу фараонов, до облачения в маску Агамемнона, в портки Менелая, до ритуального прикрепления к бедрам кобуры Париса.

Если герои Гомера жили в условно-приподнятом эпическом мире, то Герберт Адлер проживал в безусловно приспущенном антиэпическом мире, в котором Афродита не уговаривает Елену любить Париса, а склоняет ее, грешную, к простой, как дуновение весеннего ветра, лесбийской любви. И сколько намотано предрассудков перед этим простым, как сожаление о прожитой вечности, делом? Люди любят богов небескорыстно. Отчего же ожидать чистоты и бескорыстности в отношении богов к ним? Что получил, то и оплатил… Что подарил, то и обесцветил в невынужденном ожидании своего акта слияния с ними, небоносными извергами, сладострастными мучителями античности, немытыми иконами Средневековья и суперзвонкими рок-какофониями современности…
Герберт Адлер проживал в антиэпическом мире, в котором страстного гомеровского мстителя Менелая величали минилаем, то есть очень негромким, субтильным лаем, переходящим в нервическое повизгивание, которое являет на свет забрехавшаяся сука, облеченная в специальный электрический ошейник, бьющий ее каждый раз, когда несчастная пытается проронить звук, но от боли она скулит пуще прежнего, от чего пунктуальный ошейник продолжает исправно ударять ее током… И так до бесконечности, до судорог, до собачьей эпилепсии, до вывороченного наизнанку небытия, в котором уже не полаешь, в котором все верхи стали одновременно низами и где акт лесбийской любви не воспринимается как нечто повседневное, а видится потусторонней глупостью копошащихся в испарениях бытия тел.
Плоскость шара, на которой пытался удержаться Герберт Адлер, была особенно покатой. В Уголовном кодексе не хватит пунктов, чтобы описать все, что сотрудники Герберта позволяли себе по отношению к нему. Его легкий и временами жизнеутверждающий характер настолько раздражал людей, что они нередко и вовсе сходили с ума, действовали неосмотрительно, словно преследуя единственную цель – навредить Герберту наимаксимальнейшим образом. Адлер тоже был не промах. В ответ – хотя никогда не было ясно, кто же начал, – итак, в ответ Герберт дрался, как лев, пил горькую из бутылки, воровал сам у себя и обвинял других в краже, сам себя избивал и, напоминая человека после полета с дерева, демонстрировал присяжным заседателям самовывих собственного голеностопа, растяжение связок руков и ногов, залихватски-трагически крича:
– Это они! Это они меня так изуродовали!
При этом Герберт был человеком хорошим, действительно очень хорошим. Таким хорошим, что шары, на которых он балансировал, гордились своими изломами пустот. То есть иногда Герберту только казалось, что он балансирует на поверхности шара, хотя по-настоящему он балансировал в пустоте и причинял себе гораздо больше вреда и неурядиц, чем его враги, и вражда изъедала Герберта изнутри, даже не до изнанки поверхности кожи, а до изнанки одежды, до подкладки, до холодной, ласковой поверхности материи, которая вдруг вызывает нестерпимое желание сбросить с себя все и остаться даже не в чем мать родила, а в том, в чем сырая земля родит нас обратно…
Живущий по заповедям Божьим, Герберт Адлер нередко забывал, в чем же они заключаются, и, вспоминая, вдруг удивлялся: а ведь из всех запретов он нарушил не более пяти… Хотя если вдуматься, вглядеться попристрастнее, то наверняка и больше… И возводя себе кумира, Адлер менял определения; судебные же издержки от своих препирательств с совестью изрядно погашал за счет своей аморфной от длительного использования души.
И все это ради чего? Чтобы жить в своем фантастическом мирке, где дочка в день рождения получает бриллиантовые сережки, а сынишка – полный набор инструментов джазового оркестра… Особенно барабаны. Ну какой отец добровольно подарит собственному сыну барабаны? Разве что только глухой. Но Герберт и был таким глухим. Ему не мешал лай любимых собак Эльзы, ему не ничего не мешало, потому что он давно проживал в другом измерении; провалившись под подкладку бытия, он вроде бы и присутствовал в этой жизни, но по-настоящему был где-то еще или уже нигде не был. Наблюдая протекающий момент из засады, Герберт уже не удивлялся своей отстраненности, не грезил возвращением в реальность, не надеялся однажды проснуться и снова обрести нормальную обитель бытия, с возможностью судить об актуальности и полезности вещей не по их таинственным ноуменологическим [1], каузальным ипостасям, а по конкретным, больно стучащим углами феноменологическим праздностям. Неужели жизнь – это только пляска молекул?.. Ночь, луна, пьянящий, будоражащий запах то ли смерти, то ли сирени. И поплыла по небу серебристая шарообразная развратница, и Земля, беспечная, как плоскость шара, внезапно ушла из-под ног! Что это – акт любви? Что это – акт смерти? Что это – и то, и другое?
1
Это явления умопостигаемые, в отличие от чувственно постигаемых феноменов. В философии Канта понятие «ноумен» соответствует понятию «вещи в себе».