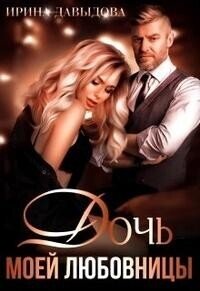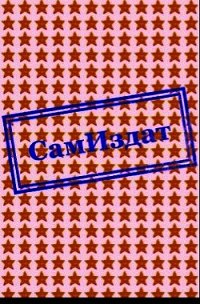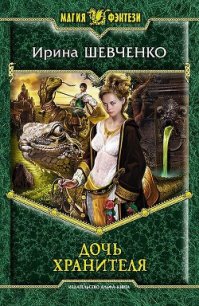Генеральская дочь - Гривнина Ирина (читаем книги TXT, FB2) 📗
Белокурые волосы уложены в затейливую «французскую» прическу, глаза лукаво блестят, брови выщипаны «под Грету Гарбо», губы аккуратно подведены модной темной помадой. Она чуть- чуть улыбается, и это придает лицу особое очарование.
Иона О. любил и баловал единственную дочь. Благодаря его заботам Ляля была всегда продуманно, со вкусом одета. У нее, единственной в институте, были шелковые платья, строгие твидовые костюмы английского покроя, яркие заграничные блузки. Белизну холеной Лялиной кожи выгодно оттеняли посеревшие от голода лица ее невзрачных сокурсниц. Мужчины, редкие в Москве в ту пору, улыбались ей особыми улыбками, приглашали в кино. А раз сын крупного партийного чиновника повел ее после лекций в ресторан. И, провожаемая завистливыми взглядами нищих подружек, Ляля шла рядом с ним сквозь ледяные зимние сумерки, чуть покачиваясь на модных высоких каблуках, гордо неся на плечах голубую беличью шубку.
Курсанты военных училищ, приходившие в институт на танцы, случалось, дрались из-за нее. Она, казалось, не замечала их, но разрешала очередному победителю проводить себя домой.
«Но сперва, — Ляля подымала палец вверх, — мы проводим мою подругу».
И они вместе провожали Лялину некрасивую подружку-отличницу, боявшуюся темноты (Ляля умела ценить дружбу, особенно — дружбу полезную: подружка аккуратно вела конспекты лекций и героически подсказывала на экзаменах).
Распрощавшись с подружкой, Ляля брала под руку глупо улыбавшегося курсанта, и он, млея от счастья, всю дорогу мечтал о том, как войдет в незнакомый дом, как Ляля представит его матери… Незадачливый поклонник, однако, в квартиру не допускался. Дойдя до подъезда, Ляля поворачивалась к нему, благодарила и протягивала руку, подымая ее чуть выше обычного, как для поцелуя. Редко кто догадывался, что руку даме положено целовать. Дома Ляля брезгливо морщила нос: «лапти», и на этом обычно знакомство кончалось.
«С Толей мы в Берлине познакомились. Капитан, летчик… Зарплата приличная, перспективы у него хорошие были. И потом в войну слово это: „летчик“ так романтично звучало. Он старше меня был на два года, но маленький, на два с половиной сантиметра ниже. Зато — коренной москвич, и прописку московскую сохранил, конечно, как фронтовик. Ухаживал за мной долго, обещал на руках носить. Поженились прямо там, в Германии, и сразу почти — такая досада! — перевели его служить на Крайний Север. Сперва-то я ехать не хотела, а потом испугалась одного отпускать. Кто его знает, подцепит там чукчу какую-нибудь.
Тогда всем казалось, что скоро по Европе можно будет куда угодно ездить, я планировала побыть с Толей пару месяцев, ну — полгода, и махнуть обратно к папе, он уговаривал меня с ними пока пожить. Подумать только, на три года еще, по крайней мере, могла остаться в этом раю!
Вилла каменная на окраине Берлина, сад. Летом я целыми днями в шезлонге на солнышке нежилась, а вечерами у мамы собирались жены офицеров. Очень интеллигентные дамы: генеральши, полковницы. Папа брал меня с собой в машину, мы ездили по Берлину, я покупала все, что понравится, браслет вот этот в лавке какой-то обшарпанной купила, и видите, до сих пор ношу. Мой ювелир просит продать, но я не продам ни за что. Знающий человек сказал: итальянская работа, семнадцатый век. Кто бы подумать мог? Я и платила-то хлебом да консервами мясными.
А почему нет? После войны, после всех страданий народных, я считаю, это только справедливо было, мы кровь за это проливали!
И вот я, как дура, все бросила и на Север поперлась. Домишко Толе дали холодный, мы все никак натопить не могли. Молоко — ледяными слитками, картошка — из трех кило еле маленькая кастрюлька выйдет. Тьма вокруг ледяная, черное небо зимой, по полгода света не видать, и не верится, что где-то есть наш берлинский сад, зеленая трава, розы. Я ведь не с Толей поехала, а на месяц позже, он хотел сперва устроиться. Прилетела на учебном самолете, открытом, меня в летный комбинезон одели, чтобы не замерзла. Как парашютист сидела, верхом на бревне. В части приземлились — снег аж скрипит, это в сентябре-то. Смотрю, бежит мой, букет тащит. Я со смеху померла: две мимозы да роза. Потом уж, вечером, когда офицеры с женами пришли прописку отмечать и все начали над моими цветами кудахтать, ясно стало, и где он достал, и сколько это стоило. Из-за этого букета у нас, собственно, сын родился. Мы не хотели ребенка, а тут я как-то расслабилась, из благодарности, наверно. Через месяц поняла, что беременна, — ан поздно: аборты-то давно запрещены были…»
Как бессмысленно, несуразно и неразумно все! Она мысленно перебирала в памяти все прошлые неудачи и промахи и чувствовала, как от бессильной злобы сжимаются кулаки. Арест отца… Крым… Дядюшка, испоганивший ей юность… Да что там юность, всю жизнь, потому что после его медовых, сладостных ласк она ни о чем другом уже думать не могла. И первый же подвернувшийся военный летчик, опытный, ловкий любовник подчинил ее себе, сделал ей ребенка, сломал жизнь…
В последний раз за этот бесконечный день Лена Ионовна набрала номер сына, в последний раз представила себе, как отчаянно голосит телефон в его пустой квартире.
Теперь придется звонить завтра с утра. Невысказанное раздражение переполняло ее, мешало сосредоточиться. Чтобы отвлечься, Лена Ионовна вынула из шкафа свежие простыни и принялась готовить матери постель на диване в гостиной. Из спальни принесла запасную подушку, взбила ее повыше, пристроила в изголовье. Мать сидела в кресле под торшером, с книгой в руках. Видно было, что она и не думает читать. Просто приняла привычную позу, протянула руку к столику, взяла предмет, который привыкла брать, раскрыла где-то на середине…
«Как ни в чем не бывало, — с раздражением подумала Лена Ионовна, — словно бы ничего не случилось».
Но вслух спросила только, не помочь ли раздеться?
Нет, спасибо, она разденется сама.
Лена Ионовна машинально пожелала матери спокойной ночи и ушла к себе в спальню.
Тяжело опустившись на край кровати, она подумала, что, по-хорошему, надо бы принять ванну. Но не было сил подниматься, тащиться в ванную комнату, ждать, пока ванна наполнится водой. Она разделась и залезла под заграничное пуховое одеяло. Тяжелый день больно отдавался в висках, гипертонической тяжестью наливался затылок. Счастливое, легкое чувство любви к матери, посетившее Лену Ионовну на кухне, давно ушло, и пусто было бы в ее сердце, если б не злоба на сына.
Уже засыпая, она подумала:
«Ничего, ему тоже достанется, когда меня хоронить придется…» И ощутила облегчение, почти радость.
Theme
Мальчик рос с бабушкой и дедом. Он был тих, медлителен и толст. Незаметно, самоучкой научился читать — никто не помнил, как и когда. Только что исполнялось ему четыре года, только что он слушал сказки, что читала вслух бабушка, и вдруг обнаружилось, что он читает уже сам, бегло, без видимых затруднений.
То были времена, когда, Бог весть почему, для детей начали переиздавать старинные приключенческие романы про рыцарей и Прекрасных Дам, про индейцев, благородных белых охотников и королевских мушкетеров. Книжная полка мальчика постепенно заполнялась старыми, отравленными опасным романтическим зельем томами, полными историй о мужестве, дружбе, верности.
Книги чаще всего дарили на день рождения (он всегда предпочитал такой подарок шоколаду, хоть и был страшным сластеной). И, оттягивая вожделенную минуту свидания, он долго рассматривал многообещающую картинку с парусником либо индейцем в уборе из орлиных перьев на обложке, прежде чем отворить картонную дверь святилища и войти в него — надолго, а может быть — насовсем. Разглаживая рукою страницы, он с наслаждением вдыхал божественный запах клея и свежей типографской краски, предвкушая знакомство с новыми друзьями, опасные приключения, собственную гибель и рыдания любимой женщины над своим красиво распростертым бездыханным телом…