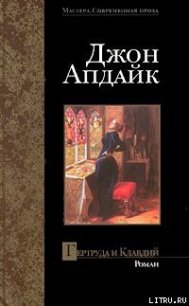Ферма - Апдайк Джон (читать книги полностью без сокращений txt) 📗
До странности беззвучно, как будто их радостный визг был так тонок, что человеческое ухо его не воспринимало, собаки терлись о мои ноги. Я поставил на землю миску с колбасой, один кусок отдельно бросил щенку на солому, взял пустое ведерко и, не забыв припереть за собой дверь сарайчика, пошел к колонке около дома и накачал в ведерко воды до краев, присоединив еще один звук к тем, что привычно нарушают деревенскую тишину. В теплом ночном воздухе визгливый скрип насоса разносился по всем окрестным фермам. Монотонную совиную жалобу заглушили причитания козодоя. Я отнес покачивающееся ведерко в сарайчик (свет метнулся и исчез: три собачьих носа сослепу вместе ткнулись в воду), вышел и, приглядевшись к луне, определил, что до полнолуния одна ночь, не больше. Потом постоял еще немного под открытым небом, явственно ощущая, как движется время, и почти с облегчением вернулся под крышу, в дом.
Проходя через кухню, я погасил там свет. В гостиной, где уже легла мать, было темно. Я пошел к ней, хотя мысль об ожидающей наверху Пегги распирала мне череп. Я не видел памятных с детства предметов, но обостренным чувством угадывал их присутствие, как паломник, приблизившийся к святыне. Запах в комнате был не такой, как когда-то, — пахло пылью. Я сел в бабушкину качалку, и она откачнулась под моей тяжестью, словно бабушка соскочила, уступая мне место. Мы помолчали.
— Мальчик, видно, умненький, — сказала наконец мать.
— Да, очень.
— Даже странно, — продолжала она. — Должно быть, не в мать пошел.
Удар обрушился на меня в темноте, словно мне накрыли подушкой голову, и стало нечем дышать. Я как будто вернулся на несколько лет назад, к той минуте, когда в этой же комнате я трусливо предал Джоан. И все-таки я оценил — не мог не оценить верное чутье матери. Я только промямлил в ответ:
— Тебе так кажется?
— Удивляешь ты меня, — сказала мать. Оттого что она лежала, ее голос звучал глуховато.
— Чем же?
— Тем, что тебе непременно нужна рядом глупая женщина, чтобы ты себя чувствовал уверенно.
— Ты же ровно ничего о ней не знаешь. И не хочешь узнать.
— Я знаю то, чего предпочла бы не знать. Смотрю вот на тебя и думаю: отец бы не поверил, что этот человек — его сын.
— А ты за отца не думай. Слушай, мама! — Я уже не говорил, а шипел, сипел; я вскочил на ноги, и качалка, запрокинувшись от толчка, качнулась обратно и ударила меня сзади по ногам. — Ты уже мне раз отравила семейную жизнь, и я не желаю, чтобы это повторилось. Будь повежливей с моей женой. Ей незачем было сюда приезжать. Она и не хотела, боялась. Ты сама позвала нас. Ну вот, мы здесь.
Она отозвалась коротким смешком — я успел позабыть эту ее привычку шумно втягивать носом воздух в знак веселого изумления.
— А я что? Я только сказала, что мальчик, видно умом в отца.
— Не знаю. Я отца видел всего один раз.
Она вздохнула.
— Ты на меня не обижайся, Джой. Я просто вздорная старуха, которой давно уже и поговорить не с кем, кроме собак. Думала, вот хоть с сыном поговорю, да, видно, зря понадеялась.
Ее тактика самообвинения, хоть и хорошо знакомая мне, действовала по-прежнему безотказно; мой гнев растворился в этой мутной смеси шутовства и печали, и, чтобы еще через минуту не оказаться в сговоре с ней, я отступил.
— Я пойду, пора спать.
— Спокойной ночи, Джой.
— Приятных сновидений, как говорил дедушка.
— Приятных сновидений.
Я вышел из гостиной, где луна, как залезший в комнату вор, уже отбирала безделушки и разную серебряную мелочь, и ощупью стал подниматься по крутой и холодной деревенской лестнице. До меня донеслось мерное дыхание Ричарда. Я легонько провел пальцами по его голове. Вернемся в Нью-Йорк, надо будет сходить с ним в парикмахерскую. В спальне было темно, но мне эта темнота показалась обратной стороной особой, отчетливой видимости; мне показалось, будто кто-то глядит на меня, слепого, сквозь голубое стекло двух окон, выходящих на лунный луг. Точно неясный свет в глубине морской бухты, мерцал за правым окном, искаженный дефектом стекла, красный огонек на телевизионной башне, лишь недавно в паутине стальных опор выросшей близ автострады. Под легким нажимом издалека идущего света комната распалась на составные элементы: окна, камин, бюро, зеркало, кровать.
Столбики кровати рисовались отчетливыми силуэтами, на верхушках которых, обретя третье измерение, вздулись деревянные ананасы, но само ложе тонуло в потемках — манящая пустота, бархатное озеро меж чуть белеющими прямоугольниками глубоких оконных ниш. Я нашарил стул и разделся около него.
— Где моя пижама?
В таинственной пустоте скрипнуло, и голос Пегги спросил:
— А зачем она тебе?
— Пожалуй, без нее холодно будет.
— Авось не замерзнем.
Когда я улегся, она спросила:
— Что случилось?
— Ничего особенного.
— Ты дрожишь как щенок. Притворяешься?
Я нашел, и схватил, и крепко сжал у запястий ее руки, чтоб она не могла увернуться от того, что мне нужно было ей сказать; и, боком навалясь на нее, придвинув лицо к ее лицу так близко, что можно было почувствовать ее влажное дыхание и увидеть, как блестят белки ее широко раскрытых глаз, я сказал прямо туда, в нее:
— Мне тридцать пять лет, я прошел сквозь огонь и воду и медные трубы — так почему же эта старуха должна иметь такую власть надо мной? Это нелепо. Это стыдно.
— Она что-то говорила про меня?
— Нет.
— Говорила.
— Давай спать.
— Ты спать хочешь?
— Я думал, ты слишком устала.
Ответа не последовало. Бывают, слава богу, минуты, когда слова уже не нужны.
У моей жены широкие, очень широкие бедра и длинная талия; если на нее смотришь сверху, испытываешь ощущение простора, богатства, и оттого, что это богатство принадлежит тебе, хочется и самому всем телом раздаться вширь; когда приникаешь к ней, перед тобой словно развертываются одна за другой живописные картины — то как будто с балкона, сквозь затейливую арабскую вязь чугунной решетки видишь даль, снежно-белую от лопающихся коробочек хлопка, то стройный ряд сонных сопок, уходящих в перспективу мазками сухой и горячей охры, то средневековый французский замок, чьи серые стены хитро прилепились к крутому зеленому склону, и каждый уступ повторен башенкой, то какой-то антарктический ландшафт, то, наконец, спуск в долину, где тихая речка притаилась среди виноградников, отбрасывающих на нее черные и лиловые тени, но никто никогда не пробовал тот виноград. А над всем, точно небо, высокое и холодное, царит-парит, господствует, пребывает — пребывает чувство, что здесь она, уверенная, спокойная, бдительно бодрствующая, и это чувство мне служит защитой от головокружения, в какую бы глубь ни предстояло сойти. С Джоан я этого чувства никогда не испытывал. Меня всегда страшило, что я вот-вот задохнусь, когда я был с ней. Она казалась таким же, как я, опрометчивым беспомощным путником и так же блуждала в темных недрах, куда лишь при землетрясении мог вдруг ударить свет. В такой ненадежный путь можно было пускаться лишь после долгих сборов и двигаться ощупью, ползком, не зная, куда он тебя приведет. А с Пегги я скольжу, я несусь, я лечу свободно, и это ощущение свободного полета, раз украдкой, мельком испытанное, стало для меня нужней воздуха, непреодолимей земного притяжения.
— Уснем?
— Здесь тишина какая-то громкая.
— В ящике бюро есть индейское одеяло. Достать?
— Боишься озябнуть?
— Если ты будешь совсем рядом — нет.
— Слушай, я поняла, почему мне вдруг пришел на ум щенок. Ты ведь кормил собак, и от тебя немножко попахивает псиной. Как от деревенского батрака. Мне нравится.
— Ты прелесть. Я тебя люблю — всю.
— Вот и люби меня. Люби всю.
— Если ты настаиваешь… — Я уже засыпал.
Мать мне пожелала приятных сновидений. И вот я снова, чуть не в десятый раз, увидел коротенький сон, который стал сниться мне в те времена, когда в мою голову впервые забрела мысль о разводе и новой женитьбе. Мне снилось, что я дома, на ферме. Стою у стены, увитой зеленой виноградной листвой с такими же зелеными гроздьями, и гляжу на окно спальни, точно мальчишка, который пришел в гости к товарищу, а постучать не решается. К окну подходит Пегги, но сетка от насекомых мешает мне разглядеть ее лицо. Ее широкая оранжевая ночная рубашка, моя любимая, слегка спустилась с плеч; она прижимает лицо к сетке, чтобы окликнуть меня, и я вижу, как чудесно она улыбается; ей так нравится здесь, так все с непривычки интересно, она в восторге от фермы и полна желания вознаградить меня своим лучезарным присутствием за беспросветное уныние тех дней и лет, которые я здесь провел. Она зовет меня; ее улыбка, светлая и счастливая, как бы вобрала и подытожила всю нашу историю, все страхи, все горести, всю беспощадную суровость; через нее, эту улыбку, находит себе путь прощение, идущее издалека, — и столько в ней радости! Никогда еще не было так радостно на ферме.