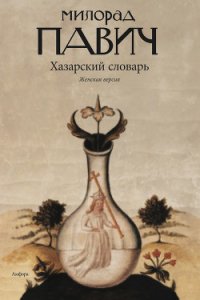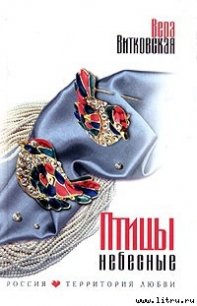Небесные всадники - Туглас Фридеберт Юрьевич (бесплатные книги онлайн без регистрации .TXT, .FB2) 📗
Туглас часто любит заканчивать главу или новеллу такими сугубо языковыми нюансами: «Но тут вдруг я заметил нечто странное: Медведица лежала ничком, знаки зодиака поменялись местами» (сб. «Судьба»), или: «Задние лапы Медведицы свисали над верхним проемом окна» («Феликс Ормуссон»), или: «А я лежал лопатками на плаунах, зажав в ладонях волчьи ягоды» (сб. «Судьба»), или: «Тогда Раннус схватил кирпич и обрушил его на череп нищего. Череп проломился, точно глиняный горшок» (сб. «Судьба»), или: «Лицо его синело в сером свечении града, только оттопыренные уши розовели подобно рыбьим плавникам. Так и брел идиот мимо заколоченных досками дверей да окон, пока его не скрыла завеса града, молотившего по его голому черепу, словно по страусову яйцу» (сб. «Странствие душ»).
Любовь к конкретности влечет за собой обилие сравнений. Но поскольку движущую силу повествования у Тугласа составляют визуальные образы, то здесь относительно мало таких поэтических фигур, которые снижают абстрактность изложения, зато-тем чаще сами образы соединяются между собой при помощи зрительных или вообще любых чувственных ассоциаций: лицо как мешок, алебастровые плечи, глаза-шила, голова как кегля, череп словно страусово яйцо, пуговки-купальницы, трава как пряжа и т. п.
Так как в новеллах Тугласа часто царит атмосфера у ж а с а, призрачности, воспринимаемая пограничными областями чувств, то здесь неизбежно гиперболизируются и реальные предметы. Уже в «Душевом наделе» едоки за столом вдруг предстают этакими жуткими чудовищами, колдунами, помешивающими кривыми допотопными ложками какую-то бурду в чашках, вокруг которых свернулись в кольца змеи. Луна кажется желто-багровым глазом хищного зверя, все приближающимся; эта фантазия сменяется видением окошке, которую ребенок начинает заглатывать с хвоста, пока не вырисовывается жуткая картина: голова животного посреди человеческого лица и т. д.
Гиперболы рождаются у Тугласа и тогда, когда его разум вплотную приближается к восприятию и начинает подстегивать его. Тогда мы воочию видим, как сосны наклоняются д о з е м л и, слышим, как шуршат крылья стрекоз, как трепещет на ветру сосновая кора, замечаем высоко в небе красные лапы журавлей. Такой дальнозоркостью наделяются и персонажи: вот Конрад рубит на опушке леса дерево — «он поднял топор обеими руками высоко вверх и затем широкой дугой опустил его вниз. Ясный по-осеннему воздух позволял различить каждое его движение. Ударов топора не было слышно. Казалось, будто он рубит воздух». За этим Конрадом наблюдает маленький Юхан, который видит, как топор х о д и т на топорище, — а ведь от Юхана до Конрада четверть версты.
Знанию, что где-то вдали болтается топор на топорище, придается визуальный характер, хотя в действительности видеть так далеко невозможно. Но таков Туглас — у него все должно восприниматься чувствами.
Туглас является творцом сенсорного типа. Можно привести немало примеров, где его восприятие не ограничивается только зрением, а прислушивается также к слуховым, вкусовым, тепловым, обонятельным, вегетативным ощущениям. Впрочем, столь же чутко внимает он и голосу разума.
Направляющая рука разума угадывается уже в том, как непрерывный поток жизни, движение расчленяется на неподвижные части, позы, которые затем выстраиваются в ряд с целью лучшего их обследования и описания. Именно перевес описаний, статических моментов над движением и сменой событий говорит о том, что автор во многом руководствуется разумом. Ведь это разум рассекает неумолимое течение жизни на куски, привязывает их к определенным координатам, чтобы можно было созерцать и оценивать их, не опасаясь, что они уплывут бог знает куда.
Порой глаголы даже оказываются некстати, сообщая фразе ненужную динамичность, мешающую описанию. Тогда появляются безглагольные предложения: «Тихие вечерние зори, пурпурно светящиеся небеса, туманная завеса над лесными озерами и вдали за покосами — грустное пение» — и так далее, на протяжении целой страницы (сб. «Песочные часы», II). Это чистой воды импрессионизм. Предложения следуют одно за другим как нанесенные рядом мазки красок. По своему методу Туглас полная противоположность тем реалистам, которые, подобно Таммсааре, пропускают события прежде всего через призму разума, предоставляя читателю самому позаботиться об их эмоциональной окраске. Передавая непосредственные впечатления, Туглас, наоборот, апеллирует к разуму читателя, который постоянно должен быть начеку и соединять отдельные фрагменты в осмысленное целое.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Обилие, да еще и явно импрессионистическое, деталей часто не позволяет читателю дать волю с в о е й фантазии, ибо писатель на каждом шагу уточняет их. Именно поэтому импрессионистическая манера и не годится для написания крупного романа: она утомила бы читателя уже на десятой странице. Всеохватывающий синтез в этом стиле невозможен.
Обратимся теперь к самой ф р а з е Тугласа. Структура ее вполне соотносима с вышеописанной манерой изображения: ей присущи ясность, краткость и выразительность. Предложения здесь коротки, абзацы невелики: всегда имеется возможность присесть на скамейку, что ли, передохнуть и поразмыслить над прочитанным. Законченные фразы могут жить и сами по себе, вне связи с другими предложениями: социальных мотивов в них мало.
Туглас почти не пользуется периодами. Соединение и подчинение предложений при помощи застежек типа «чтобы», «поскольку», «когда» чуждо ему. Не типичные для него фразы, как, например, вот эта из сборника «Судьбы», встречаются весьма редко: «Поскольку уже вечерело, то шкипер послал только семерых из команды на шлюпке к берегу, чтобы они осмотрели остров и после этого либо сразу вернулись назад, либо, если окажется возможным, провели ночь на острове и лишь утром возвратились с известиями». Подлинно тугласовская фраза совсем иная. Она звучит так: «Посредь горы, напоминавшей человеческий череп, торчали два обугленных столба ивановых костров. Трава как от шрамов чернела от кострищ. Расплавившееся стекло сверкало в золе словно око земли» (сб. «Судьба»). Или если взять сборник «Странствие душ»: «Вокруг зеленели деревья, местами образуя чуть ли не парк. Между башнями вились арки из лиан. Журчали фонтаны, орошавшие согбенные от тяжести плодов пальмы. По берегам прудов пестрели зонты, будто шатры на солнце». Или «Песочные часы» (I): «Темно-зеленые корявые каштаны были все в цвету. Средь черных ветвей скользили желтые стаи бабочек. Ниже подобно угару расстилался пар от прелой земли под кустами».
Таков пинцет, которым Туглас выхватывает щепотки жизни.
Стоит, пожалуй, отметить и трехчленность тугласовской фразы. Это видно уже по цитировавшимся выше примерам, где предложение состоит из трех элементов: подлежащего, сказуемого, определения, а потому в высшей степени просто. Три таких предложения образуют самостоятельный абзац. Значительная часть описаний Тугласа подпадает под эту схему.
Часто встречаются и фразы с тремя глаголами, что отчасти обусловлено их ритмом, вернее, что как раз и создает их ритм: «Она вскочила, подбежала нагая к окну и закрыла руками глаза от яркого света»; «только погрузиться в эту сладостную реку, утонуть в ней, забыть все» (сб. «Песочные часы», I). И на следующей странице: опустилась на колени, посмотрела, увидела; была одета, вышла, спустилась вниз; давило, дышало, стучало; проснулся, открыл, выпроводил; пошла, перепрыгнула, вела; спустилась, напевала, улыбалась; шумели, было, мерцало.
Трехкратность переносится также на существительные и другие части речи, однако здесь не место обстоятельно исследовать этот вопрос.
Обратившись к повторам, мы уже вступили в область ритма. Каким бы простым ни казался поначалу метр фразы Тугласа, ритм ее все же чрезвычайно разнообразен. Можно даже сказать, что ему вообще не свойственны фразы, лишенные музыкального звучания. В «Песочных часах» попадаются целые страницы стихотворной речи, полной аллитерации, ассонансов и рифм, которые только визуально воспринимаются как прозаический текст. На самом деле это стихотворения в прозе, характерные для символистского периода в творчестве Тугласа. В них много риторики, ораторских приемов, повторов, мелодических ходов, восклицаний и воздыханий: «Как ветры наши мысли: они взлетают, реют, исчезают. Как…» Или вопросительных обращений: «Как очутился я здесь? Что привело меня под сень этих чужих стен? Отчего так тревожно у меня на душе? Почему в сердце такое горестное ощущение своей беспомощности, неприкаянности, ненужности? Зачем мне нужен был самый реальный мир, чтобы поверить в реальность мира?» (сб. «Песочные часы», II). К этому стилистическому приему Туглас прибегает сплошь и рядом во всех своих художественных произведениях.