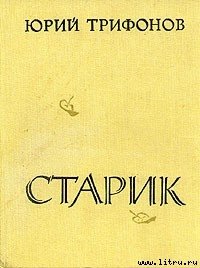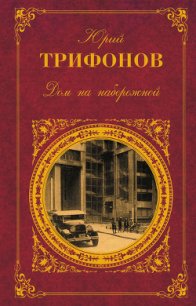Утоление жажды - Трифонов Юрий Валентинович (читать книги онлайн .TXT) 📗
— А вы говорите, говорите, — сказал Ермасов. — Вы не лозунги выкрикивайте, а говорите по делу.
— А я скажу, Степан Иванович. Я вас не боюсь…
— Вот и говорите.
— Я и собираюсь. Во-первых, почему не указаны причины? Как возникло это безобразие?
— Что вы называете безобразием? — оглушительно рявкнул Ермасов.
— Товарищ Ермасов! Давайте по порядку… — Председательствующий, первый секретарь обкома Эрсарыев, постучал по столу карандашом.
— Нет, во-первых, объяснения причин, — продолжал Хорев, — откуда взялось такое количество поврежденной техники. Во-вторых, кто виноват в этом безобразии. Я называю это безобразием, не знаю, как другие. Устроили кладбище! Хоронят раньше времени драгоценнейшие государственные механизмы.
— Верно, безобразие, — сказал Ермасов. — Дальше, дальше! Рожайте мысль!
— Мысль простая: кто виноват и что делать? Два, как говорится, вечных вопроса…
Опять встал председатель комиссии, высокий старик в очках, и принялся объяснять. Хорев с ним спорил. Председатель комиссии объяснял деликатно, немного пришибленным тоном.
— Мы, собственно, не ставили задачей делать исторический анализ. Нам казалось, объективная картина…
— От вас ждали другого! — гремел Хорев. — От вас ждали принципиальной, партийной оценки явления, а вы ушли в кусты. Кого вы побоялись? Товарища Ермасова? Не хотели гладить против шерсти? А придется! Придется высказаться, товарищ Уманский…
— Да ты сам выскажись, — сказал Ермасов. — В чем причина, по-твоему?
Хорев помолчал, жуя губами, лицо его побледнело.
— Степан Иванович, я бы попросил не говорить мне «ты», — это не украшает вас…
— Ладно, не буду, извиняйте. В чем причину вы видите?
— В том, что с самого начала строительства вы пошли по неправильному, порочному пути — нарушения проекта. Отсюда все качества. Отсюда армия ненужных, раскулаченных скреперов, отсюда эксплуатация механизмов на износ, отсюда это знаменитое кладбище. Вот о чем надо говорить прямо!
Затем вспыхнул спор между Хоревым и Гохбергом. Я не все понимал в этом споре — слишком много было техники, специальных слов, упоминаний вскользь о чем-то мне неизвестном, — но по мере того, как в водоворот втягивались новые люди, я все отчетливее видел, как размежевывались силы. С одной стороны были Ермасов и руководители Пионерной конторы, с другой — Хорев и приехавшие из Ашхабада работники управления, три человека, один из которых был мой знакомый Нияздурдыев.
Эрсарыев пока что молчал и внимательно слушал, изредка что-то записывая. Члены бюро обкома — среди них было несколько почтенных пожилых, с орденами на пиджаках, вероятно, председатели колхозов, — тоже держались молчаливо и непроницаемо, и непонятно было, на чьей они стороне. Скорей всего они, так же как и я, были не очень-то в курсе дела. Ермасов тоже был, кажется, членом обкома. Мне нравился Ермасов. В его лобастом, с мешковатыми щеками, курносом, старом лице была какая-то непередаваемая, наивная открытость: все чувства, едва родившись, мгновенно отпечатывались на нем. Такая открытость бывает у детей и людей, одержимых страстью. Когда Ермасов кричал на Хорева, тыча в его сторону кулаком: «А это принципиальность, по-твоему: соглашаться со всем, а потом — нож в спину?» — я видел, что гнев распирает его настолько, что, не будь тут стола, он бы схватился с начальником «Восточного плеча» врукопашную. И когда он притрагивался к сердцу ладонью и тут же испуганно отдергивал ее, боясь, что этот жест заметят, и на его лице мелькало выражение досады и боли, я видел, что все это неподдельное и что у него действительно болит сердце, и он стыдится своей старости и своей слабости. Когда, устав от крика, вытирая ладонью слезящиеся глаза, он сказал тихо, ослабшим голосом: «Да черт вас возьми, я ведь одного хочу: скорее вернуть народу его деньги, его миллионы. Понимаете? Скорей пустить воду», — меня эти слова как будто пронзили. Потому что я понял, что это на самом деле то, чего он больше всего хочет в жизни.
У меня тоже слезились глаза от табачного дыма. Все двадцать человек курили беспрестанно. За окном был темный, ненастный день, с утра сочился дождь. В синем стекле отражались горящие лампы под матовыми абажурами.
Иногда меня поражало ощущение странности всего происходящего. Споры были почти непонятны, хотя я слушал их с интересом. Но мне делалось неуютно от одной мысли о том, что я тоже должен вдруг встать и начать что-то говорить. Кому? Им, опытным инженерам, вождям стройки, спорящим о своем сложном, гигантском деле. Хуже всего было то, что присутствующие, очевидно, знали, что я корреспондент газеты, и не какой-нибудь случайной газеты, а той самой, что напечатала статью, с которой все началось. И они посматривали на меня с интересом и, конечно, ждали моего выступления.
Эрсарыев перед началом заседания поздоровался со мной и крепко пожал руку. Видимо, тоже рассчитывал на мое выступление, но в каком духе? Как я понимал, спор шел о вещах более крупных, чем положение дел в ремонтных мастерских. Ермасова и Карабаша обвиняли в том, что они, не считаясь с проектом, не считаясь с завезенной техникой, строили канал по-своему. Хорев и представители управления требовали жестокого наказания руководителей Пионерной конторы. Но спор шел, наверное, еще и о чем-то другом, гораздо более значительном. И вот я старался вникнуть в это «гораздо более значительное», уловить его, расслышать в потоках слов, потому что это было самое главное и понятное и то, что меня волновало, но было ли это здесь? Был ли тот водораздел, который разделяет людей по самому великому счету? Может, мне все это чудилось? Меня переполняла эта тема, я слышал ее повсюду, даже там, где не было ничего, кроме простенького мотивчика…
— Нет, нам не все равно, какой ценой выполняется план, — говорил Нияздурдыев. — И не всякое новаторство нас устраивает. Если это новаторство за счет угробления техники…
Карабаш и Гохберг читали что-то длинное, изложенное на многих страницах невероятно тяжелым инженерным языком: нечто вроде родословной каждого скрепера, экскаватора и трактора, которые находились в мастерских. Они доказывали, что скреперы вовсе не годятся для песков, а тракторы и экскаваторы сделали свое дело и списаны законно. Хорев кричал грозно: «Значит, вы отметаете выступление партийной печати?!» Нацепив очки, он декламировал цитаты из Сашки:
— «До каких пор бесхозяйственность и безответственность будут царить…»
— Хотите уйти от ответственности, дорогие друзья? — спрашивал Нияздурдыев.
— Да за одно такое отношение к критике надо влепить им по строгачу! — воскликнул другой представитель управления. — И напрашивается вывод: а могут ли подобные руководители оставаться во главе?..
Карабашу и Гохбергу было худо. Я чувствовал, что настает мое время, но с чего начать? Реплика Хорева неожиданно подтолкнула меня:
— Товарищи, здесь присутствует корреспондент газеты, которого, конечно, интересует, какие выводы сделали мы, строители, из той справедливой критики…
Я вдруг встал с ненужной поспешностью и, прервав Хорева, заговорил:
— Корреспондент — это я! — Все обернулись ко мне. Я увидел внимательные, настороженные лица, а Ермасов смотрел откровенно злобно. — Видите ли, я не являюсь автором этой самой кладбищенской статьи, то есть не кладбищенской, естественно, а насчет, так сказать, кладбища механизмов имени товарища Гохберга — такое острое название… Но должен сказать следующее. Эту статью написал наш работник Зурабов. Он был на стройке, собрал большой материал и написал довольно интересно и вообще, так сказать, остро. Но! Тут есть одно «но»! — Я всегда ненавидел дурацкое выражение «есть одно „но“ и издевался над ораторами, которые его применяют, и вдруг применил его сам, черт меня знает почему. — Это „но“ заключается в том, что нельзя о большом явлении, большом деле, вот таком, например, как ваша стройка, писать односторонне, отмечая только недостатки. Такой односторонностью страдала статья Зурабова, и наш коллектив признал ее малоудачной и не вполне, ну, что ли, добросовестной… Передаю мнение и нашего редактора, товарища Диомидова, который был в отъезде, когда статья печаталась, а заместитель редактора понес полную и, так сказать, довольно тяжелую ответственность… Вот это я считаю долгом вам сообщить.