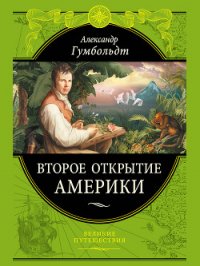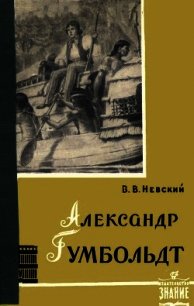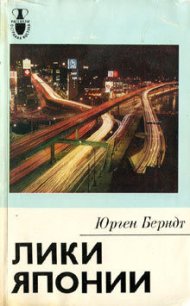Дар Гумбольдта - Беллоу Сол (читать книги онлайн без txt) 📗
— Этот человек никогда никого не убивал, — подтвердил коп.
— Мне нужно ехать в Европу, меня ждут дела.
Второе было важнее. Самое худшее в данной ситуации заключалось в том, что происходящее мешало моей хлопотливой поглощенности, моему запутанному вглядыванию в себя. Это была моя внутренняя гражданская война с публичной жизнью, простой и открытой всякому любопытному взгляду, да к тому же характерной для этих мест, для города Чикаго, штат Иллинойс.
Как фанатичный книжник, зарывающийся в бесчисленные фолианты и привыкший смотреть на полицейские и пожарные автомобили, на машины скорой помощи с высоты своих окон, как человек, живущий в коконе из тысяч ссылок и текстов, в тот момент я осознал всю уместность объяснения, данного Т. Э. Лоуренсом своему вступлению в Королевские военно-воздушные силы: «Резко погрузиться в среду неотесанных мужланов и найти себя… — И что из этого вышло? — …для оставшихся лет активной жизни». Погрузиться в грубость и насмешки, в непристойность казарм и мерзость нарядов. Да, говорил Лоуренс, многие не пикнув примут смертный приговор, чтобы избежать пожизненного заключения, которое судьба держит в другой руке. Я понял, что он имел в виду. Я понял, что наступает момент, когда кто-нибудь — и почему бы не кто-нибудь вроде меня? — делает для решения этого сложнейшего, приводящего в отчаяние вопроса больше, чем все замечательные люди, бравшиеся за него прежде. Но хуже всего, что этот нелепый момент обрывал все мои планы. К семи меня ждали на ужин. Рената обидится. Она не выносила несостоявшихся свиданий. Рената — девушка с характером, и этот характер всегда проявлялось одинаково; к тому же, если мои подозрения верны, Флонзалей всегда крутился неподалеку. Мысль о замене вечна. Даже самые цельные и уравновешенные личности незаметно подбирают запасные варианты, а Ренате до цельности далеко. Она часто ни с того ни с сего начинала говорить в рифму и как-то удивила меня таким вот стишком:
Милый скрылся за углом — Ждет замена под окном.
Сомневаюсь, что кто-нибудь способен оценить острословие Ренаты глубже, чем я. Оно открывало захватывающие горизонты искренности. А мы с Гумбольдтом давно сошлись во мнении, что я способен принять все, что хорошо сказано. И это правда. Рената заставила меня рассмеяться. Позже я попытался вникнуть в ужасный смысл, скрытый за ее словами, внезапно обнаживший неприятную перспективу. Например, она как-то сказала мне: «Лучшее в жизни достается задаром, легко, но нельзя слишком легко обращаться с лучшим в жизни».
Любовник в тюрьме открывал перед Ренатой классическую, хотя и пошловатую возможность легкого поведения. Поскольку я имею обыкновение поднимать такие жалкие сентенции до теоретического уровня, никого не удивит, что я начал раздумывать о необузданности подсознательного и его независимости от правил поведения. Однако подсознание всего лишь аморально, но не свободно. Согласно Штейнеру, истинная свобода живет только в чистом сознании. Каждый микрокосм отделен от макрокосма. Мир утратил себя на произвольной границе между Субъектом и Объектом. Исходное «я» ищет развлечений. И становится действующим лицом. Вот удел Сознающей Души, как я понимал его. Но в этот момент на меня накатил приступ недовольства самим Рудольфом Штейнером. Недовольство это основано на неприятном отрывке из «Дневников» Кафки, на который указал мой приятель Дурнвальд, считавший, что я еще способен на серьезное интеллектуальное усилие, и намеревавшийся вытащить меня из пропасти антропософии. Кафку, чувствовавшего, что он уже достиг физических пределов рода человеческого, привлекли взгляды Штейнера, а его провидческие положения Кафка считал близкими своим собственным. Он договорился встретиться со Штейнером в отеле «Виктория» на Юнгманштрассе. В «Дневниках» говорится, что Штейнер явился в грязной, заляпанной визитке, с явными признаками серьезной простуды. У Штейнера обильно текло из носу, и Кафка, рассказывая, что он — художник, завязший в страховой фирме, с отвращением наблюдал, как Штейнер пальцами запихивает носовой платок глубоко в ноздри. Кафка жаловался, что здоровье и характер помешали ему сделать литературную карьеру. И спрашивал, что его ждет, если к литературе и страховому делу он добавит теософию? Ответ Штейнера в «Дневниках» не приводится.
Конечно, и самого Кафку распирало от тех же безысходных и изощренных насмешек над Сознающей Душой. Бедняга! — то, что он рассказывал о себе, не делает ему чести. Гениальный человек застрял в ловушке страхового дела? Какой банальный недуг, ничем не лучше насморка. Гумбольдт бы согласился со мной. Мы частенько говорили о Кафке, и мне известно, что Гумбольдт о нем думал. Но сейчас все они — и Кафка, и Штейнер, и Гумбольдт — пребывали в стране смерти, и вся компания, собравшаяся сейчас в кабинете Стронсона, со временем присоединится к ним. Вероятно, сохранив за собой возможность несколько столетий спустя вновь явиться в мире, блистающем ярче прежнего. Впрочем, будущему миру не потребуется слишком сильного блеска, чтобы оказаться ярче мира нынешнего. Как бы там ни было, то, как Кафка описывал Штейнера, меня огорчило.
Пока я предавался этим размышлениям, Такстер перешел к действию. Поначалу нагло, но это ни к чему не привело. Поэтому он решил выяснить недоразумение как можно любезнее, стараясь говорить не очень покровительственно.
— И все же, я полагаю, вы не станете использовать этот ордер и арестовывать мистера Ситрина, — сказал он, мрачно улыбаясь.
— А почему бы и нет? — поинтересовался коп, засовывая массивный никелированный «магнум» Кантабиле себе за пояс.
— Вы же сами признали, что господин Ситрин не похож на наемного убийцу.
— Он изнурен и бледен. Ему бы смотаться на недельку в Акапулько.
— Все это надувательство просто нелепо, — заявил Такстер. Он демонстрировал мне всю прелесть своего таланта общения с самыми разными людьми и то, как хорошо он понимает своих соотечественников-американцев и умеет с ними ладить. Но я ясно видел, каким чуждым существом представляется полицейскому Такстер со всей своей элегантностью и манерами в духе Питера Уимзи [314]. — Господин Ситрин — всемирно известный историк. Его даже наградило французское правительство.
— И вы можете это доказать? — поинтересовался полицейский. — У вас случайно нет с собой ордена?
— Люди не носят с собой ордена, — ответил я.
— Ну тогда какие у вас доказательства?
— У меня есть орденская лента. Я имею право носить ее в петлице.
— Дайте взглянуть, — попросил полицейский.
Я вытащил спутанный и ничем не примечательный отрезок выцветшей шелковой светло-зеленой ленточки.
— Это? — спросил полицейский. — Я бы ее даже цыпленку на лапку не привязал!
Я был полностью солидарен с ним и как житель Чикаго в глубине души тоже потешался над этими дурацкими иностранными знаками почета. Я — шизалье, смеющийся над собой до посинения. И над французами тоже. Эта штука сослужила службу и французам. Нынешнее столетие оказалось для них не самым лучшим. Они все делали плохо. А что они имели в виду, вывешивая на груди эти ничтожные обрывки лент странного зеленого цвета? В Париже Рената настояла, чтобы я носил ленточку в петлице, и мы подверглись насмешкам настоящего шевалье , с которым обедали. Его лацкан украшала красная розетка, и себя он именовал «сильный ученый». Он презрительно прошелся по моей жизни. «Язык Америки ужасно скуден, просто ничтожен — заявил он. — Во французском языке для обозначения ботинка существует двадцать слов». Затем он презрительно отозвался о поведенческих науках — видимо, принял меня за ученого из этой области — и очень невежливо о моей зеленой ленточке. Он сказал: «Уверен, что вы написали достойные внимания книги, но такая награда дается людям, которые усовершенствовали poubelles 1». Так что эта французская награда не принесла мне ничего, кроме огорчений. Но через это нужно было пройти. Единственно подлинная награда, которую можно заслужить в этот опасный период человеческой истории и космического развития, не имеет никакого отношения к орденам и лентам. Не впасть в спячку — вот единственная награда. А все остальное — просто шелуха.
314
Уимзи Питер — английский лорд, персонаж серии детективных романов писательницы Дороти Сейерс (1883-1957).