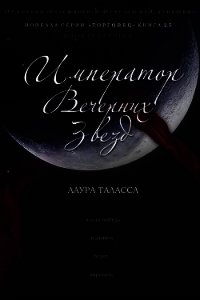Сад вечерних туманов - Энг Тан Тван (читаем книги онлайн бесплатно .txt) 📗
Снаружи доносятся голоса, делаясь все громче. Я выхожу из кабинета и иду к входной двери. Вималя разговаривает с двумя китаянками под самой верандой. У одной из них наголо обрита голова, одета она в линялый серый наряд. Наверное, она чуть моложе меня, точно определить затрудняюсь. Рядом с ней стоит какая-то женщина. Когда я выхожу, Вималя поднимает на меня взгляд:
– Они у ворот стояли, когда я сюда пришла.
– Благодарю вас, Вималя.
– Ой, и еще, судья Тео… можете посоветовать мне какие-нибудь книги по японскому садоводству?
– Кое-какие дам.
Она оставляет нас, и я вновь поворачиваюсь к китаянкам. Монахиня говорит по-английски:
– Меня зовут Чин Лай Кью.
Три круглых шрамика образуют вертикальную линию на ее челе: клеймо, оставленное на коже благовонной палочкой, когда женщина давала монашеский обет.
– Миссис Вонг любезно довезла меня сюда.
– Эмили говорила мне про вас. Входите, располагайтесь в доме.
– Не стоит, лах.
Монахиня поворачивается к своей спутнице и говорит по-китайски:
– Вы не могли бы подождать у пруда? Я не займу слишком много времени судьи Тео.
Когда женщина оставляет нас одних, монахиня говорит:
– Знаете, а мы с вами уже встречались – в Храме Облаков.
– Не помню.
– Мистер Аритомо приходил просить меня, чтобы я помолилась за его друга. Вы были с ним в тот день.
Память о ее лице, увиденном в то утро, почти сорок лет назад, словно надпись на могильном камне, оттираемая бумагой, постепенно обретает форму – расплывчатую, неясную.
– Вы были…
– Такой молодой тогда? – Монахиня улыбается, обнаруживая нехватку зубов. – И вы были такой же. Только мы совсем не чувствовали себя молодыми, верно?
– Что вы имеете в виду?
Мгновение спустя я догадываюсь сама.
Браслет из нефритовых бусин на ее запястье мягко постукивает, когда она перебирает их.
– Я была ёгун-янфу. – Я оглядываюсь на дом, вовсе не уверенная, что хочу выслушивать то, что она хочет рассказать. – Нас двенадцать было, пойманных по всей стране, – продолжает монахиня. – Мне было тринадцать лет – самая молодая. Самой старшей было лет девятнадцать-двадцать. Солдаты держали нас в монастыре, в Танах-Рате: они из него себе казарму устроили. Я там пробыла два месяца. Потом в один прекрасный день меня выпустили. Просто так. Я пошла домой, в Ипох. Только все знали, что японцы со мной учинили. Какой мужчина захотел бы взять меня в жены? Мой отец до того стыдился меня, что продал в бордель. Я сбежала. Пошла в другой город, но и там люди как-то все прознали. Люди всегда вызнавали. Однажды я услышала, как женщина рассказывала про храм на Камеронском нагорье. И храм этот принял нескольких женщин вроде меня. Я направилась в монастырь. И никогда больше его не покидала.
Помня, каким заброшенным и покинутым он выглядел, спрашиваю:
– Монастырь… он все еще там?
– Мы ухаживаем за ним, сколько сил хватает, – говорит она.
Помолчав некоторое время, монахиня объясняет причину своего посещения:
– Через несколько лет после ухода мистера Аритомо я выяснила, что во время Оккупации он наведался к местному коменданту и просил отпустить всех ёгун-янфу в Танах-Рате. Комендант согласился выпустить на волю четырех самых молодых девушек.
Аритомо мне об этом ничего не говорил.
– Я хотела рассказать вам это, когда он пропал, – говорит монахиня, – но вы уже уехали.
– Рада, что вы решили навестить меня.
– У меня была еще одна причина.
– Вы хотите увидеть сад.
– Сад? – На какой-то миг она казалась озадаченной. – А-а! Нет, лах. Нет. Но однажды мистер Аритомо сказал мне, что у него есть изображение Лао Цзы. Мне хотелось бы увидеть его, если оно все еще здесь.
– Оно по-прежнему на месте. Как и ваш храм.
Я веду ее в дом, к рисунку тушью, созданному отцом Аритомо. Монахиня останавливается перед старым мудрецом. Посредине рисунка – разрыв, но он так искусно заделан, что почти не замечается.
– «Покончил с делом – время уходить», – тихо произносит монахиня. – Таков завет Дао [239].
Я уже много раз перечитала Дао Дэ Цзина, и эта фраза мне знакома.
– Дело Аритомо не было закончено, когда он ушел.
Монахиня оборачивается ко мне и улыбается – не мне, а самому миру.
– А-х-х… А вы в этом уверены?
Прибираясь в кабинете после того, как проводила монахиню и ее спутницу, я думаю над тем, что она рассказала. До сих пор еще оставалось столько всего, чего я не знала об Аритомо, так много такого, о чем я не узнаю никогда!
Сняв несколько книг с одной полки, я обнаруживаю за ними шкатулку. Открываю и нахожу в ней пару гнезд саланган, ставших от старости заскорузло-желтыми. Это гнезда, которые подарил мне Аритомо. Я достаю одно из них, оно кажется таким хрупким. Не помню, чтобы я хранила их в этой шкатулке, когда мы вернулись из пещеры, но так и не пустила их на суп, как предлагал Аритомо.
– Судья Тео?
В дверях появляется Тацуджи. Я закрываю шкатулку, ставлю ее обратно на полку, приглашаю его войти.
Он извещает:
– Я завершил осмотр укиё-э.
– Можете пользоваться ими всеми, – говорю я ему. – Даю вам свое позволение.
Это больше, чем он ожидал. Он кланяется мне:
– Мой адвокат вышлет вам договор.
– Есть еще одно произведение Аритомо, и я хочу, чтоб вы его оценили, Тацуджи.
Не уверена, что стоило бы продолжать, еще не поздно передумать, но ведь именно поэтому я и желала его видеть, по этой причине и пригласила его в Югири.
– Аритомо был татуировщиком.
– Значит, я был прав с самого начала. Он был хороти, – улыбка на лице ученого становится еще шире. – У вас есть фотографии созданных им татуировок?
– Он никогда не делал никаких фотографий.
– Наброски?
Я отрицательно качаю головой.
– Он оставил вам образцы своих наколок?
– Всего один.
Понимание стирает пелену возбуждения с его лица.
– Он вас татуировал?
Я киваю, и Тацуджи ненадолго смежает веки. Уж не благодарит ли он Бога Татуировок? Меня не удивило бы, если б такое божество существовало.
– Где она? У вас на руке? На плече?
– У меня на спине.
– Где в точности? – спрашивает он, становясь все более нетерпеливым.
Я продолжаю смотреть на него, и его лицо тонет в потоке внезапного озарения.
– Со, со, со [240]. Не просто татуировка, а хоримоно!
Он на время лишается дара речи.
– Это было бы одним из важнейших открытий в японском художественном мире, – выговаривает он наконец. – Представьте: садовник императора Хирохито – создатель произведения искусства, на которое наложено табу. На коже женщины-китаянки, что не менее поразительно.
– Об этом не должно быть никаких упоминаний, если вы хотите использовать укиё-э Аритомо.
– Тогда зачем вы мне рассказали об этом?
– Хочу, чтобы это хоримоно было сохранено после моей смерти.
– Это легко устроить.
– Как?
– Составим договор, что вы завещаете свою кожу после вашей смерти мне – после незамедлительной оплаты, уже сейчас, если вы пожелаете, – говорит Тацуджи. Рука его вычерчивает в воздухе изящный круг. – Детали можно обсудить позже. Но прежде всего, – ладони его сходятся в молчаливом хлопке, – прежде мне придется убедиться в качестве и характере работы на вашей коже. Мы проделаем это в присутствии женщины-ассистента, разумеется. Можем договориться о встрече в Токио.
– Нет. Мы проделаем это тут. Прямо тут. В этой комнате, – говорю. – Незачем напускать на себя смущенный вид, Тацуджи. Мы оба – взрослые люди. И достаточно насмотрелись на обнаженные тела.
– Я бы предпочел, чтобы присутствовал кто-то еще, чтобы не могло возникнуть никаких пересудов… э-э…
Его пальцы теребят узел галстука.
239
Дао, букв.: путь (кит.) – одна из важнейших категорий китайской философии. Конфуций придал ему этическое значение, истолковав как «путь человека», то есть нравственное поведение и основанный на морали социальный порядок. Даосы, заимствовав термин, выстроили вокруг него собственную философию; наиболее известная и значимая даосская интерпретация Дао содержится в трактате Дао Дэ Цзина.
240
Со, со, со – так, так, так (яп.).