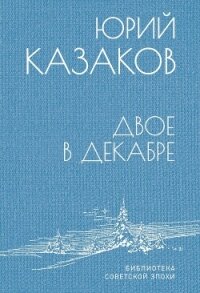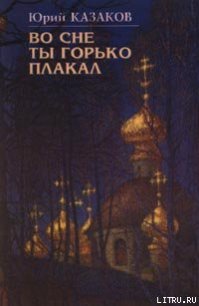Поедемте в Лопшеньгу - Казаков Юрий Павлович (книги онлайн полные версии бесплатно .txt, .fb2) 📗
Но вот пробил некий таинственный час, и мы поняли, что пора становиться по местам. Я облюбовал себе большую поляну, походил по ней, выбирая самое удобное место, взглянул на небо, и мне показалось, что поляна хороша, хоть была она не лучше и не хуже других полян. Закурив, я поглядел сквозь лес, стараясь угадать, где станут мои товарищи. Ничего мне не было видно, хоть лес и был прозрачен, но я чувствовал по тишине, что оба стоят уже, задрав головы, разглядывая высочайшие облачка в небе и напряженно вслушиваясь.
Перелетали с дерева на дерево угольно-черные дрозды, высоко тянула в соловеющем небе сойка, вздымаясь и проваливаясь, как бы купаясь в холодном вечереющем воздухе, а снизу резко ударил выстрел. Тотчас подумал я на моего начинающего охотника. Сойка сбилась с ритма, потом спохватилась и стала забирать еще выше. И опять стало тихо.
Вдруг прокатился еще выстрел, но уже далекий, не наш. В другой стороне ему отозвался кто-то, будто бы еще дальше, и пошло, пошло — то там, то здесь ахало, а мы все молчали… Но вот ударил кто-то из наших, и я посмотрел туда в слабой надежде, что, может быть, от него вальдшнеп натянет на меня, но ни единой тени не мелькнуло на небе.
Все, все было у меня: и Венера, как всегда, незаметно и будто внезапно объявилась, и дрозды посвистывали и дудели в стеклянные свои дудочки и резко замолкали, заснув на полупесне, лес коричневел, и холодом тянуло от земли, небо как будто поднялось и отдалилось, далекие выстрелы раскатывались по голым далям, по голым лесам, меня знобило от волнения, от нетерпения — мои вальдшнепы не летели…
Опять близко ударил мой начинающий охотник, мгновенно обшарил взглядом я небо над его поляной и никого не увидал. «В кого же это он?» — подумал я, потому что тот стоял близко, я бы видел вальдшнепа, если бы летел. Но тут меня опять отвлек второй мой товарищ, сдуплетил, а когда стихло эхо, мне послышалось, вернее, показалось, что послышалось, как он побежал куда-то, треща прошлогодним валежником.
Наконец один за другим протянули и у меня вальдшнепы, явно далеко они летели, но я так истомился, что не стерпел, выстрелил и раз и другой, мимо, конечно, не достал…
Мы сошлись, когда совсем стемнело. У одного ничего не было, он только шумно дышал от волнения и, забыв, что убивать ужасно, рассказывал, как у него что-то пролетело, но он забыл передвинуть предохранитель, потом выстрелил, но уже поздно было, а что пролетело, он не знал. Другой держал пепельно-рыжего вальдшнепа и скромно улыбался своим круглым, тугим лицом, и тут, рассказав друг другу, как всегда это бывает, кто где стоял и как стрелял, покурив и успокоившись, мы пошли домой.
Опять мы шли опушками, слабая буроватая заря светилась у нас за спиной, а впереди ничего не было видно, только синевато-темная мгла над лесом, и лес был темен, и не понять даже было, близко ли, далеко ли стоят деревья. Мы шли, а тяга не прекращалась, в отдалении, то тут, то там, хоркали и чиркали вальдшнепы, и мы нервно оглядывались. Вдруг очередной хоркающий звук стал приближаться, мы остановились, лицом к закату, и через секунду увидели, как, мелко подрагивая крыльями, вдоль опушки, совсем низко, вполдерева, летел на нас вальдшнеп. Шесть выстрелов дали мы, торопясь, по нему, шесть фиолетово-красных снопов огня полоснули во тьме, а вальдшнеп будто и не слыхал даже и, так же хоркая, трепеща крыльями, прошел мимо нас и, завернув вправо, скрылся в лесу.
Не успели мы пройти десяти шагов, как нас стал нагонять еще один, и мы опять повернулись, все сразу его увидели, и опять каждый поспешил свалить его первым, опять пошло стукаться, перекатываться, схлестываться по опушкам: «Трах-тах-тах-тах!..»
Через пять дней уже вдвоем ехали мы дальше на север. Круглолицый товарищ мой, не выдержав бессонных ночей, холодов и стихов, собрался домой.
— Вообще-то… собака… натаскивать… Лялька там… дачу снимать… — бормотал он, нашпиговывая своих уток солью, и уж лицо у него размякло, думал небось, как домой приедет, как выложит своих уток.
Еще в Вологде сидел писатель П. среди своих охотничьих книг, под медвежьей шкурой, жаловался на сердце и говорил о глухарях, о шелковом треске их хвостовых перьев, о немногих теперь глухариных токах, которые, как он хорошо выразился, засекречены сейчас лучше военных аэродромов.
Рассказывал он нам об одном озере, как он там жил и охотился и какая была там тишина, какой покой. О деревянной тропе рассказывал, которая ведет через гиблые болота, и что идти по ней нужно двадцать километров, а потом уже и озеро выглянет, на другой стороне которого стояла когда-то обитель, а теперь ничего нет, а только один дом, в котором живет старик со старухой. Деревянная тропа приводит к берегу и обрывается, а на берегу стол и лавки в землю врыты, и висит на елке обрезок железной трубы. В эту трубу и нужно колотить и кричать, чтобы старик приехал и забрал к себе. Это и будет пристань, конец всего сущего, начало иного мира, а называется пристань — «Долгие крики». Так и сказал нам П. в Вологде, сидя под своими книгами, под ружьем, висящим на стене, сказал тихо и нежно:
— Долгие крики…
Все-таки П. решил удружить нам, позвонил в Архангельск кому-то, тот еще кому-то позвонил, и нас уже ждали, чтобы отвезти на это озеро, на глухариный ток.
На другой день поезд наш подошел к деревянному архангельскому вокзалу, вместе со всеми пошли мы на пристань, и ударила в глаза нам ширина Северной Двины — пароходы, танкеры, лихтеры, шхуны с паутинкой такелажа, буксиры, лесовозы, катера — все было в движении, и с севера, как всегда, дышало морем, свежими досками, а кругом уж слышался северный торопливый говор.
А проведя две или три совершенно немыслимых бессонных ночи в Архангельске, однажды под вечер взвалили мы свои рюкзаки и ружья, вышли на Поморскую, встретились с нашим проводником и поехали опять через Двину на поезд.
В поезде ехали мы долго ли, коротко ли, а приехали, вышли на глухой станции, пошли за проводником какими-то проулками, по опилкам, по влажному мху, в прохладе, в свете долгого заката, зашли, наконец, в какой-то дом, и встретил всех нас милый хозяин. Вышел из горницы, мягко ступая своими броднями, улыбнулся, тихо поздоровался… Какое-то отношение имел он к нашей предстоящей охоте, то ли объездчиком был или егерем, потому что проводник наш разговорился с ним о разных лесных делах, а хозяин между тем маленький самоварчик поставил, белого хлеба нарезал и стал потчевать нас.
— Это хорошо вам будет, — приговаривал он. — На дорожку-то. В животе хорошо будет, горячо эдак-то, пейте, пейте, дорожка-то у нас тяжелая, с палками пойдете, дак подпираться придется, чтобы не упасть. Не ходили эдак-то? А вот и пойдете, вот и узнаете…
И тут же стал жаловаться нашему проводнику, что плоха стала тропа, на стыках погнила, то и дело приходится прыгать или перебредать болотом.
— А давно ли тропа сделана? — поинтересовались мы.
— Да уж давненько, лет сорок будет. Будет? — обратился хозяин к нашему проводнику.
Тот сдвинул густые свои звероватые брови, подумал секунду и кивнул утвердительно, хоть и не мог он этого знать, молод был. А мы с наслаждением подумали об этом тихом крае, о том, что мы и не родились еще, а тут вот тропу по болотам гатили и ходили, и ходят, а теперь наконец и мы пойдем.
И как всегда, перед трудной дорогой не хотелось нам сразу вставать, не хотелось спешить, сидели мы возле окна, поглядывали на улицу, на гусей, на кур, на то, как девушка за водой шла, как, напрягаясь, крутила она колодезный ворот, на ноги ее глядели, потом на дома, которые еще поблескивали последними вспышками окон, пили чай, слушали, как проводник наш с хозяином говорит.
А говорил он о том, что три дня назад уже был на озере, двух глухарей убил. Мясо там же съел, на озере, у костра, а желудки в Архангельск увез на исследование.
— А чего в них исследуют?
— А исследуют, чего они едят.
— Ну и что нашли?
— А нашли разное. Камушки едят, песочек. Клюкву едят, хвою, потом еще листья прошлогодние…