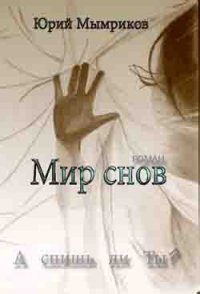Улица Грановского, 2 - Полухин Юрий Дмитриевич (читаем книги онлайн без регистрации TXT) 📗
– Должно быть, славный у вас сын?
– А вот увидите сейчас.
Было уже одиннадцать часов, и я удивился:
– Неужели ждет?
Ронкин тоже взглянул на часы.
– Не успел еще: у них школа в три смены, а он теперь в восьмом, взрослый считается класс, вот и кончают они – в половине одиннадцатого. Так что ждать-то обычно мне приходится.
– Неудобно как! – посочувствовал я. А Ронкина вдруг озлило это словечко.
– Неудобно знаете что?.. А у нас похлеще, чем неудобно. Школы, детские сады, магазины – весь так называемый соцкультбыт отстает минимум на пятилетку.
И вроде есть оправданье: тридцать тысяч людей живут еще в вагончиках. Знаете эти ПДУ?
Я знал: передвижные, легкие домики, зимой – иней на стенах, а летом, в жару – свариться можно под раскаленной крышей, и теснота: подросток дотянется до противоположных стен, до обеих сразу – запросто.
– Тридцать тысяч?!
– Вот-вот, – усмехнулся Ронкин, – все так же и удивляются. Начальство наезжее – тоже. Удивится, а ему тут же еще мыслишку подбросят: зачем нам соцкультбыт, если с жильем не успеваем? Так оно и цепляется одно за другое. Десятый год стройке, а мы первый настоящий клуб в прошлом году завели. И тот – больше на воскресниках строили…
Мы вышли из тесных проулочков, где коробки пятиэтажных домов чуть не впритык друг к другу, на один из центральных широких проспектов. Тут вскинулись кверху башни – двенадцати– и шестнадцатиэтажные. Они стояли как-то взразброс, но, может, оттого, что сейчас в окнах было много свету, перекликались друг с другом согласно: был каксчй-то, хоть и рваный, ритм в их расположении; они не только поднимали город вверх, но и заставляли думать о дальних далях; я вдруг ощутил, что вот за этими домами, неподалеку, стоит дремучая тайга, сейчас в темноте невидимая.
Проспект, на который мы вышли, тоже был необычным: тротуары и проезжее шоссе – на трех разных уровнях, как бы мощной, широченной лестницей. Мы стояли на верхней ступеньке, и прерывистые пунктиры фонарей на улицах, вытекающих из проспекта, убегали не просто от нас – еще и вниз куда-то. И вся эта круговерть огней, близких и дальних, делала город стремительным… Ронкин все понял по моему лицу и сказал:
– Красиво… За этим я вас сюда и привел. А вообще-то нам в другую сторону, – и повел меня обратно по той же улочке, по которой мы вышли к проспекту.
Саша, сын Семена Матвеевича, оказался вовсе на отца непохожим. Я ждал увидеть невысокого бойкого паренька, а дверь нам открыл – худущий, длиннорукий и ростом выше нас; лицо его тоже, наверное, было длинным и узким, но глаза, неправдоподобно громадные, «ронкинские», скрадывали это впечатление. А к тому же они были сейчас чем-то встревожены. Но, увидев меня, он только поздоровался и больше ничего не стал говорить, а убежал на кухню и там на пластиковый белый стол прибавил к двум, уже стоявшим, третий стакан, положил еще одну вилку – хозяйничал.
Чайник вскипел, Саша приготовил заварку, движения его были привычными, быстрыми, но немножко угловатыми, некоординированными какими-то: то ли он стеснялся длинных своих, худых рук, то ли волновался, взглядом спрашивая у отца разрешения заговорить.
А Ронкин молчал, вымыл руки, сел, попробовал, хорош ли чай, отхлебнув из стакана, и только тогда, улыбнувшись так же неожиданно, как и замолчал перед тем, спросил:
– Ну что еще приключилось? Выкладывай, не стесняйся…
Оказывается, Саша поспорил, чуть не поссорился с учительницей Бори Амелина. Сегодня она выставляла своим первоклашкам недельные оценки за поведение и, как завелось у них, не то что обсуждала, но обговаривала с ребятами, кто и что заслужил, кому отметка снижается, за какие такие вольные или невольные крамолы.
И вдруг Боря, которому хотели поставить пятерку, встал и сказал: «Я этого не заслуживаю». А почему – не отвечает. Молчит, весь красный, вот-вот заплачет. Учительница, уже жалея его, вынесла вопрос на голосование, и весь класс нестройным хором кричал: «Пятерку! Пятерку!..» Но Боря опять оспорил: «Нельзя мне пятерку!
У меня плохое поведение. Вы не знаете, а я – знаю!» – и опять замолчал.
Тогда учительница вспылила и стала его отчитывать:
«Если не хочешь сказать, почему, то и незачем было вообще выступать. Это ты для того только так говоришь, чтоб себя перед другими выказать, и такое смирение – хуже бахвальства!»
Борька расплакался и убежал из класса.
Учительница поставила ему двойку. Вот из-за этого и поспорил с ней Саша – не из-за двойки, а из-за того, почему двойка. Он-то знал Борькин грех: на неделе раз пять малец тайком съедал конфеты младшей сестренки, заворачивал потом в фантики хлебный мякиш и объяснял ей: мол, такие особые конфеты, «хлебные».
И та верила: несмышленыш еще. А сласти эти им Саша и приносил, наказывая делить поровну. Оттого и казнил себя Борька, для которого Ронкин-младший давно уже был в большом и малом высшим, непререкаемым авторитетом, – казнил, но все-таки пагубную свою страсть сластены преодолеть не мог. Но не мог и признаться в таком двойном и тройном – всесветном – обмане.
Саша узнал о нем случайно, потому только, что Таня, младшенькая, проговорилась: «хлебные» конфеты невкусные, пусть их Саша не носит.
И хоть все это, опять же как тайну, Саша рассказал учительнице, пояснить пытался: вовсе не ложная гордость, а просыпающееся чувство собственного достоинства руководило Борисом, – та никак не соглашалась, а наоборот, укрепилась в своем: «Тем более из-за такой ерунды, как конфеты, нечего было себя противопоставлять коллективу!» Так она и объявила о том на следующем же уроке всему классу.
– Это же страшно, па! Ведь так она не только Бориса – всех к вранью приучит, только и всего!
– Страшно, – подтвердил Ронкин и еще повторил: – Страшно… Я завтра сам попытаюсь ей втолковать это.
– Правда? – воскликнул Саша и покраснел, почемуто смутившись. Ронкин подтвердил сказанное и кивнул на часы.
– А сейчас давай спать. Пора.
Тот ушел, улыбаясь, длинные руки его будто всплескивали локтями, но как-то вразнобой и, пожалуй, нелепо. Я стал хвалить его. Ронкин слушал, наморщившись.
Потом сказал:
– За одно я, правда, его ценю: привычку к постоянному самоанализу, без нее только и может вырасти хам. У него этой безотчетности нет вовсе… Но по себе знаю, привычка такая – не от легкой жизни рождается.
Выдержат ли нервишки?. Запасец их небольшой, потраченный: с пеленок и голод узнал, и по стране скитания – всякое…
Я попытался сказать что-то бодро-сочувствующее.
Но Ронкин перебил меня:
– Да я ведь не сетую! Напротив, бывает, и позавидуешь тем, кто умеет жить как трава, но это – секундное, пустое. Уж коли ты привык к самоконтролю, то от него не уйдешь. – И тут он усмехнулся лишь углом тонких губ и рассказал: – –Иногда ловишь себя на забавном… Недавно на воскреснике, – я эти воскресники, как ни странно, люблю: в экскаваторе одному поднадоест крутиться, а тут – все вместе, каждого сразу видно, чего он стоит. Да и глядишь, костер разложат, а потом скинутся ребята по маленькой, как кончим с делом, – на воздухе, под колбаску, под весь этот простор и у водки вкус появляется… Но вот взял я лопату в руки, вроде бы швыряю мусор, а сам вовсе его не шевелю, только и работаю, как это в лагере называлось, «глазами»: где распорядитель наш, не следит ли за мной…
Давний инстинкт заискрил. Но сам себя и замкнул на нем: чувство такое – как выстрел! Хоть падай лицом в этот мусор…
Он засмеялся невесело. И я, пользуясь невеселым этим поводом, свернул разговор на лагерное, припомнил Штапова, папку с делом Токарева в краснодарском архиве, рисунки Корсакова, его сестру, последние перед освобождением дни Зеебада…
Ронкин слушал мой рассказ молча, лишь изредка, коротко поглядывая на меня; большие глаза его были пытливо спокойны, будто все время сверял он услышанное с тем, что было на самом деле, прикидывал, понимаю ли я сам, о чем речь, стоит ли отвечать на мои вопросы,,. Встал и, продолжая слушать, взбодрил подостывший чай, заварил покрепче, налил в стаканы. Прекрасный был чай, он вышибал даже память о токаревском коньяке. А Ронкин все еще молчал. Сидел, уперевшись локтями в стол, голову – в ладони, взгляд – поверх моей головы.