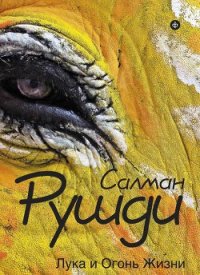Прощальный вздох мавра - Рушди Ахмед Салман (читать онлайн полную книгу .TXT) 📗
Старая гвардия винила Васко Миранду во всех произошедших в Бененхели переменах, и если бы вы попросили этих местных жителей указать момент, когда все начало рушиться, они назвали бы идиотский день слоновьего действа, ибо этот некрасивый, но широко освещавшийся бурлескный эпизод привлек к Бененхели внимание человеческих отбросов всего света, и за несколько лет это в прошлом тихое селение, бывшее излюбленным южным местом отдыха свергнутого Вождя, превратилось в гнездо странствующих бездельников, не помнящих родства паразитов и всевозможного отребья. Сержант Сальвадор Медина, начальник гражданской гвардии Бененхели и ярый противник притока новых жителей, высказывал свое мнение о них любому, кто хотел его услышать, и многим из тех, кто не хотел.
– Средиземное море, которое древние называли Mare Nostrum, гибнет от грязи, – возглашал он. – Теперь скоро и земля – Terra Nostra – будет вся загажена.
Васко Миранда, желая задобрить начальника гвардии, дважды посылал ему в качестве рождественских подарков деньги и напитки, но Медина был непоколебим. Он лично приносил купюры и выпивку обратно к дверям Васко и однажды заявил ему:
– Мужчины и женщины, которые покидают родину, – это не люди в полном смысле слова. То ли чего-то не хватает в их душах, то ли что-то лишнее туда проникло, дьявольское семя какое-то.
После этого оскорбления Васко Миранда укрылся за высокими стенами своей затейливой крепости и зажил жизнью затворника. Его никогда больше не видели на улицах Бененхели. Те, кого он нанимал в услужение (в то время многие молодые мужчины и женщины мигрировали в южную Испанию, тоже затронутую безработицей, из экономически неблагополучных областей Ламанчи и Эстремадуры, желая получить работу в ресторанах, в отелях или в домах в качестве прислуги; поэтому труд такого рода был в Бененхели столь же легкодоступен, как в Бомбее), говорили о некоторых устрашающих странностях его поведения: периоды гробового молчания и отрешенности сменялись у него припадками болтовни на невразумительные, иной раз даже совсем бредовые, темы и ошеломляющими откровениями о самых интимных подробностях своей весьма пестрой жизни. У него бывали грандиозные запои и приступы черной меланхолии, когда он горько сетовал на жесточайшие обстоятельства жизни, особенно упирая на свою любовь к некой Ауроре Зогойби и на свой страх перед «потерянной иголкой», которая якобы неостановимо продвигается к его сердцу. Однако он щедро и аккуратно платил, поэтому слуги от него не уходили.
В конечном счете жизнь Васко, может быть, не так уж сильно отличалась от жизни Авраама. После смерти Ауроры Зогойби оба они стали затворниками: Авраам – в своей высокой башне, Васко – в своей; оба они пытались заглушить боль утраты новой деятельностью, новыми затеями, сколь бы дурно от них ни пахло. И оба они, как мне предстояло узнать, считали, что видели ее призрак.
– Она тут появляется. Я ее видел.
Авраам, сидя в своем поднебесном саду с чучелом собаки, признался в том, что его посещают видения, тем самым впервые в жизни, после долгих лет крайнего скептицизма в этом вопросе, позволив словам о жизни после смерти слететь со своего безбожного языка.
– Не позволяет мне подойти: покажется и скроется за деревьями.
Призраки, как дети, любят играть в прятки.
– Она не успокоилась. Я знаю – не успокоилась. Что мне сделать, чтобы она обрела покой?
Я-то видел, что не успокоился сам Авраам, что он не может привыкнуть к мысли о ее смерти.
– Может быть, ее работы должны получить пристанище, – предположил он, после чего был составлен грандиозный юридический документ о «Наследии Зогойби», согласно которому все произведения Ауроры, являвшиеся ее собственностью, – то есть сотни и сотни вещей! – безвозмездно передавались государству при условии, что в Бомбее будет выстроен музей, где все это должным образом будет храниться и выставляться. Однако после побоищ в Мируте, после индуистско-мусульманских столкновений в Олд-Дели и других местах искусство не было предметом первостепенного внимания правительства, и коллекция, за исключением нескольких шедевров, выставленных в Национальной галерее в Дели, томилась без движения. Контролируемые Мандуком городские власти Бомбея вовсе не жаждали выделять деньги, которые отказалась предоставить казна центрального правительства.
– Тогда к чертям всех политиканов! – возмутился Авраам. – Помогай самому себе – вот наилучшая политика из всех.
Он нашел другие источники финансирования: в проект согласились вложить деньги стремительно идущий в гору банк «Хазана» и биржевой гигант В. В. Нанди, чьи набеги на мировые валютные рынки по масштабу приближались к соросовским и становились легендарными, тем более что осуществлялись они из Третьего мира.
– Крокодил Нанди становится героем постколониальной эпохи для нашей молодежи, – сказал мне Авраам, хихикая над превратностями судьбы. – Он объединил сразу два лозунга: «Империя наносит ответный удар» и «Обогащайтесь».
Нашли первоклассное здание – один из немногих сохранившихся старинных парсских особняков на Камбалла-хилл (– Давно построен? – Давно. В старые времена.) – и хранителем музея была назначена Зинат Вакиль, блестящая молодая женщина-искусствовед и поклонница творчества Ауроры, уже выпустившая в свет весьма солидное исследование могольских тканей. Доктор Вакиль тут же взялась за составление полного каталога и одновременно начала работу над критической монографией «Остранение страны: диалогика эклектизма и конфликтность аутентичности у А. 3.», в которой впервые указала на истинное, центральное место в ее творчестве цикла «мавров», включая ранее никем не виденные поздние работы; этой книгой она многое сделала для того, чтобы Аурора заняла свое место в рядах бессмертных.
Галерея «Наследие Зогойби» открылась для публики спустя всего три года после трагической кончины Ауроры; само собой, последовали кое-какие неизбежные, хоть и недолгие, споры, например, по поводу ранних «мавров», иным показавшихся инцестуальными, – этих «картин-пантомим», которые она с такой легкостью написала много лет назад. Но высоко-высоко в небоскребе Кэшонделивери по-прежнему разгуливал ее призрак.
Теперь Авраам начал высказываться в том смысле, что ее смерть произошла отнюдь не в результате несчастного случая, как решили все. Промокая платком слезящийся глаз, он однажды сказал нетвердым голосом, что те, кто погиб из-за подлости людской, не успокаиваются прежде, чем сведут счеты. Авраам все глубже и глубже увязал в трясине суеверий и явно был не в состоянии примириться со смертью Ауроры. В обычных обстоятельствах я был бы потрясен его капитуляцией перед тем, что он неизменно называл шаманством; но меня тоже крепко держала в своих объятиях навязчивая идея. Моя мать умерла – и все же мне нужно было преодолеть разрыв. Если она была мертва окончательно, необратимо, то между нами не могло быть примирения – только эта грызущая, властная тоска, эта неисцелимая рана. Поэтому я не противоречил Аврааму, когда он распространялся о призраках в его висячих садах. В глубине души я даже надеялся – да, да! – что вдруг услышу позвякиванье ее ножных браслетов с бубенчиками и шелест платья где-то за кустом. Или, еще лучше, что вернется мать моих излюбленных времен, с пятнами краски на одежде и кистями, торчащими из волос, небрежно собранных в высокий пучок.
И даже когда Авраам заявил, что попросил Дома Минто возобновить частное расследование ее смертельного падения – да, не кого иного, как Минто, слепого, беззубого, катаемого в кресле на колесиках, глухого и здравствующего почти уже на сотом году жизни только благодаря диализу, постоянным переливаниям крови и своему ненасытному, неуменьшающемуся любопытству, которое вознесло его на вершину профессиональной лестницы! – даже тогда я ничего ему не возразил. Я подумал: пусть старик делает, что ему нужно для успокоения своей растревоженной души. К тому же, должен сказать, не так уж просто было перечить Аврааму Зогойби, этому безжалостному скелету. Чем большим доверием он ко мне проникался, чем шире открывал передо мной свои банковские книжки, свою тайную бухгалтерию и свое сердце, тем более глубокий страх я испытывал.