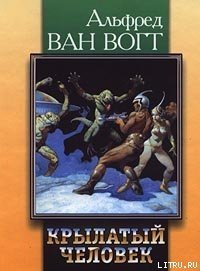Современная американская повесть - Болдуин Джеймс (читать полную версию книги txt) 📗
Эти последние педели в конце лета и начале осени слились у меня в памяти — потому, быть может, что мы стали понимать друг друга так глубоко, что могли обходиться почти без слов; в наших отношениях царил тот ласковый покой, который приходит на смену нервному желанию утвердить себя, напряженной болтовне, когда дружба скорей поверхностна, хотя кажется более горячей.
Часто, когда он уезжал из города (к нему я стал относиться враждебно и редко называл его по имени), мы проводили вместе целые вечера, порой не обменявшись и сотней слов; однажды мы дошли пешком до китайского квартала, отведали там китайского рагу, купили бумажных фонариков и, украв коробку ароматических палочек, удрали на Бруклинский мост; на мосту, глядя на корабли, уходящие к раскаленному, стиснутому каменными домами горизонту, она сказала:
— Через много лет, через много-много лет один из этих кораблей привезет меня назад — меня и девять моих бразильских ребятишек. Да, они должны это увидеть — эти огни, реку… Я люблю Нью-Йорк; хотя он и не мой, как должно быть твоим хоть что-нибудь: дерево, улица, город — в общем, то, что стало твоим, потому что здесь твой дом, твое место.
А я сказал: «Ну замолчи!» — чувствуя себя чужим, ненужным — как буксир в сухом доке рядом с праздничным лайнером, который, весело гудя, в облаке конфетти пускается в путь к далекой гавани.
Так незаметно прошли последние дни и стерлись у меня в памяти, осенние, подернутые дымкой, все одинаковые, как листья, — все, кроме одного, который не был похож ни на какой другой день в моей жизни.
Он пришелся на тридцатое сентября — день моего рождения, хотя на дальнейших событиях это не отразилось. Правда, я надеялся получить от родных поздравление в денежной форме и с нетерпением ждал утренней почты, для чего спустился вниз, чтобы подкараулить почтальона. И если бы я не слонялся по вестибюлю, Холли не позвала бы меня кататься верхом и ей не представилось бы случая спасти мне жизнь.
— Пошли, — сказала она, застав меня в ожидании почтальона. — Возьмем лошадок и покатаемся по парку.
На ней была кожаная куртка, джинсы и теннисные туфли: она похлопала себя по животу, показывая, какой он плоский.
— Не думай, что я хочу избавиться от наследника. Но у меня там есть лошадка, моя милая старушка Мейбл Минерва, и я не могу уехать, не попрощавшись с ней.
— Не попрощавшись?
— В следующую субботу. Жозе купил билеты.
Я просто остолбенел и покорно дал вывести себя на улицу.
— В Майами мы пересядем на другой самолет. А там — над морем. Через Анды. Такси!
Через Анды… Пока машина ехала по Центральному парку, мне казалось, что я тоже лечу, одиноко парю над враждебными, заснеженными вершинами.
— Но нельзя же… В конце концов, как же так? Нет, как же так? Не можешь же ты всех бросить!
— Вряд ли кто будет по мне скучать. У меня нет друзей.
— Я буду скучать. И Джо Белл. И, ну… миллионы. Салли. Бедный мистер Томато.
— Я любила старика Салли, — сказала она и вздохнула. — Знаешь, я уже месяц его не видела. Когда я сказала ему, что уезжаю, он вел себя как ангел. Честно говоря, — она нахмурилась, — он, кажется, был в восторге, что я отсюда уезжаю. Он сказал, что это к лучшему. Потому что рано или поздно, но неприятности будут. Если обнаружится, что я ему не племянница. Этот толстый адвокат послал мне пятьсот долларов. Наличными. Свадебный подарок от Салли.
Мне хотелось ее обидеть.
— И от меня получишь подарок. Если только свадьба состоится.
Она засмеялась.
— Будь спокоен, он на мне женится. В церкви. В присутствии всего семейства. Поэтому мы все и отложили до Рио.
— А он знает, что ты уже замужем?
— Что с тобой? Хочешь мне испортить настроение? День такой прекрасный — перестань!
— Но очень возможно…
— Нет, невозможно. Я же тебе сказала: это не был законный брак. Не мог быть. — Она потерла нос и взглянула на меня искоса. — Попробуй только заикнись об этом. Я тебя подвешу за пятки и освежую, как свинью.
Конюшни — теперь, по-моему, на их месте стоит телестудия — находились в западной части, на Шестьдесят шестой улице. Холли выбрала для меня старую, вислозадую чалую кобылу: «Не бойся, на ней покойнее, чем в люльке». Это для меня имело решающее значение, ибо мой опыт верховой езды ограничивался катанием на пони во время детских праздников. Холли помогла мне вскарабкаться в седло, вскочила на свою серебристую лошадь и затрусила вперед через людную проезжую часть Центрального парка к дорожке для верховой езды, на которой осенний ветер играл сухими листьями.
— Чувствуешь? — крикнула она. — Здорово!
И я вдруг почувствовал. Глядя, как вспыхивают ее разноцветные волосы под красно-желтым, прорвавшимся сквозь листву солнцем, я вдруг ощутил, что люблю ее настолько, чтобы перестать жалеть себя, отчаиваться, настолько, чтобы забыть о себе и просто радоваться ее счастью.
Лошади пошли плавной рысью, порывы ветра окатывали нас с головы до ног, плескали в лицо, мы то ныряли в озерца тени, то выходили на солнце, и радость бытия, веселое возбуждение играли во мне, как пузырьки в шипучке. Но это длилось одну минуту — следующая обернулась мрачным фарсом.
Внезапно, как дикари из засады, на тропинку из кустарника выскочили негритята. С улюлюканьем и руганью они начали швырять в лошадей камнями и хлестать их прутьями.
Моя чалая кобыла вскинулась на дыбы, заржала и, покачавшись на задних ногах, как циркач на проволоке, ринулась по тропинке, выкинув мои ноги из стремян, так что я едва держался в седле. Подковы ее высекали из гравия искры. Небо накренилось. Деревья, пруд с игрушечными корабликами, статуи мелькали мимо. Няньки при нашем грозном приближении бросались спасать своих питомцев, прохожие, бродяги и прочие орали: «Натяни поводья!», «Тпру, мальчик, тпру!», «Прыгай!» Но все это я вспомнил позднее, а в тот момент я слышал только Холли — ковбойский стук копыт за спиной и непрестанные крики ободрения. Вперед, через парк на Пятую авеню — в гущу полуденного движения, с визгом сворачивающих такси и автобусов. Мимо особняка Дьюка, музея Фрика, мимо «Пьера» и «Плазы». Но Холли нагоняла меня; в скачку включился конный полисмен, и вдвоем, взяв мою лошадь в клещи, они вынудили ее, взмыленную, остановиться. И тогда я наконец упал. Упал, поднялся сам и стоял, не совсем понимая, где нахожусь. Собралась толпа. Полисмен гневался и что-то записывал в книжку, но вскоре смягчился, расплылся в улыбке и пообещал проследить за тем, чтобы лошадей вернули в конюшню.
Холли усадила меня в такси:
— Милый, как ты себя чувствуешь?
— Прекрасно.
— У тебя совсем нет пульса, — сказала она, щупая мне запястье.
— Значит, я мертвый.
— Балда! Это не шутки. Погляди на меня.
Беда была в том, что я не мог ее разглядеть; вернее, я видел не одну Холли, а тройку потных лиц, до того бледных от волнения, что я растерялся и смутился.
— Честно. Я ничего не чувствую. Кроме стыда.
— Нет, правда? Ты уверен? Скажи. Ты мог убиться насмерть.
— Но не убился. Благодаря тебе. Спасибо, ты спасла мне жизнь. Ты необыкновенная. Единственная. Я тебя люблю.
— Дурак несчастный. — Она поцеловала меня в щеку.
Потом их стало четверо, и я потерял сознание.
В тот вечер фотографии Холли появились на первых страницах «Джорнэл америкен», «Дейли ньюс» и «Дейли миррор». Но к лошади, которая понесла, эта популярность не имела отношения. Как показывали заголовки, она объяснялась совсем иной причиной: «Арестована девица, причастная к торговле наркотиками» («Джорнэл америкен»). «Арестована актриса, продававшая наркотики» («Дейли ньюс»). «Раскрыта шайка торговцев наркотиками, задержана очаровательная девушка» («Дейли миррор»).
«Ньюс» напечатала самую эффектную фотографию: Холли входит в полицейское управление, зажатая между двумя мускулистыми агентами — мужчиной и женщиной. В таком мрачном окружении по одной одежде (на ней еще был костюм для верховой езды — куртка и джинсы) ее можно было принять за подружку бандита, а темные очки, растрепанные волосы и прилипшая к надутым губам сигарета «Пикаюн» сходство это только усиливали. Подпись гласила: