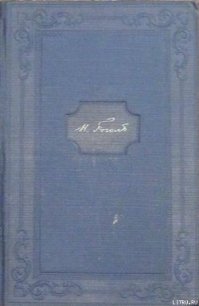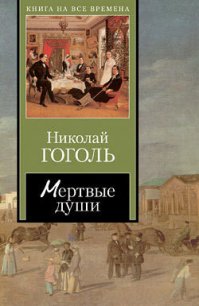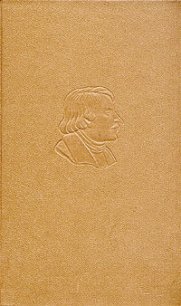Мертвые души. Том 2 - Гоголь Николай Васильевич (читаем полную версию книг бесплатно txt) 📗
Усевшись в коляску, он приказал Селифану погонять и в самом хорошем расположении духа прибыл в дом старухи Ханасаровой, который уже искренне почитал своим.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Всё на свете обделывает свои дела. «Что кому требит, тот то и теребит», — говорит пословица. Путешествие по сундукам произведено было с успехом, так что кое-что от этой экспедиции перешло в собственную шкатулку. Словом, благоразумно было обстроено. Чичиков не то чтобы украл, но попользовался. Ведь всякий из нас чем-нибудь попользуется: тот казённым лесом, тот экономическими суммами, тот крадёт у детей своих ради какой-нибудь приезжей актрисы, тот у крестьян ради мебелей Гамбса или кареты. Что ж делать, если завелось так много всяких заманок на свете? И дорогие рестораны с сумасшедшими ценами, и маскарады, и гулянья, и плясанья с цыганками. Ведь трудно удержаться, если все со всех сторон делают то же, да и мода велит — изволь удержать себя! Ведь нельзя же всегда удерживать себя. Человек не бог. Так и Чичиков, подобно размножившемуся количеству людей, любящих всякий комфорт, поворотил дело в свою пользу. Конечно, следовало бы выезжать вон из города, но дороги испортились. В городе между тем готова была начаться другая ярмарка — собственно дворянская. Прежняя была больше конная, скотом, сырыми произведениями да разными крестьянскими, скупаемыми прасолами и кулаками. Теперь же всё, что куплено было на Нижегородской ярмарке краснопродавцами панских товаров, привезено сюда. Наехали истребители русских кошельков, французы с помадами и француженки с шляпками, истребители добытых кровью и трудами денег, — эта египетская саранча, по выражению Костанжогло, которая мало того что всё сожрёт, да ещё и яиц после себя оставит, зарывши их в землю.
В то самое время, когда Чичиков в персидском новом халате из золотистой термаламы, развалясь на диване, торговался с заезжим контрабандистом-купцом жидовского происхождения и немецкого выговора, и перед ним уже лежали купленная штука первейшего голландского полотна на рубашки и две бумажные коробки с отличнейшим мылом первостатейнейшего свойства (это было мыло то именно, которое он некогда приобретал на радзивилловской таможне; оно имело действительно свойство сообщать нежность и белизну щекам изумительную), — в то же время когда он, как знаток, покупал эти необходимые для воспитанного человека продукты, раздался гром подъехавшей кареты, отозвавшийся лёгким дрожаньем комнатных окон и стен, и вошёл его превосходительство Фёдор Фёдорович Леницын.
— На суд вашего превосходительства представляю: каково полотно, и каково мыло, и какова эта вчерашнего дни купленная вещица! — при этом Чичиков надел на голову ермолку, вышитую золотом и бусами, и очутился, как персидский шах, исполненный достоинства и величия.
Но его превосходительство, не отвечая на вопрос сказал с озабоченным видом:
— Мне нужно с вами поговорить об деле.
В лице его заметно было расстройство. Почтенный купец немецкого выговора был тот же час выслан, и они остались <одни>.
— Знаете ли вы, какая неприятность? Отыскалось другое завещание старухи, сделанное назад тому пять <лет>. Половина именья отдаётся на монастырь, а другая — обеим воспитанницам пополам и ничего больше никому.
Чичиков оторопел.
— Ну что завещанье — вздор. Оно ничего не значит, оно уничтожено вторым.
— Но ведь это не сказано в последнем завещании, что им уничтожается первое.
— Это само собою разумеется: последнее уничтожает первое. Первое завещанье никуда не годится. Я знаю хорошо волю покойницы. Я был при ней. Кто его подписал? Кто были свидетели?
— Засвидетельствовано оно, как следует, в суде. Свидетелем был бывший совестный судья Бурмилов и Хаванов.
«Худо, — подумал Чичиков, — Хаванов, говорят, честен; Бурмилов — старый ханжа, читает по праздникам апостола в церквях».
— Но вздор, вздор, — сказал он вслух и тут же почувствовал решимость на все штуки. — Я знаю это лучше: я участвовал при последних минутах покойницы. Мне это лучше всех известно. Я готов присягнуть самолично.
Слова эти и решимость на минуту успокоили Леницына. Он был очень взволнован и уже начинал было подозревать, не было ли со стороны Чичикова какой-нибудь фабрикации относительно завещания. Теперь укорил себя в подозрении. Готовность присягнуть была явным доказательством, что Чичиков <невинен>. Не знаем мы, точно ли достало бы духу у Павла Ивановича присягнуть на святом, но сказать это достало духа.
— Будьте покойны, я переговорю об этом деле с некоторыми юрисконсультами. С вашей стороны тут ничего не должно прилагать; вы должны быть совершенно в стороне. Я же теперь могу жить в городе, сколько мне угодно.
Чичиков тот же час приказал подать экипаж и отправился к юрисконсульту. Этот юрисконсульт был опытности необыкновенной. Уже пятнадцать лет как он находился под судом, и так умел распорядиться, что никак нельзя было отрешить от должности. Все знали его, за подвиги его следовало бы шесть раз уже послать на поселенье. Кругом и со всех сторон был он в подозрениях, но никаких нельзя было возвести явных и доказанных улик. Тут было действительно что-то таинственное, и его бы можно было смело признать колдуном, если бы история, нами описанная, принадлежала временам невежества.
Юрисконсульт поразил холодностью своего вида, замасленностью своего халата, представлявшего совершенную противоположность хорошим мебелям красного дерева, золотым часам под стеклянным колпаком, люстре, сквозившей сквозь кисейный чехол, её сохранявший, и вообще всему, что было вокруг и носило на себе яркую печать блистательного европейского просвещения.
Не останавливаясь, однако ж, скептической наружностью юрисконсульта, Чичиков объяснил затруднительные пункты дела и в заманчивой перспективе изобразил необходимую последующую благодарность за добрый совет и участие.
Юрисконсульт отвечал на это изображеньем неверности всего земного и дал тоже искусно заметить, что, журавль в небе ничего не значит, а нужно синицу в руку.
Нечего делать: нужно было дать синицу в руки. Скептическая холодность философа вдруг исчезла. Оказалось, что это был наидобродушнейший человек, наиразговорчивый и наиприятнейший в разговорах, не уступавший ловкостью оборотов самому Чичикову.
— Позвольте вам вместо того, чтобы заводить длинное дело, вы, верно, не хорошо рассмотрели самое завещание: там, верно, есть какая-нибудь приписочка. Вы возьмите его на время к себе. Хотя, конечно, подобных вещей на дом брать запрещено, но если хорошенько попросить некоторых чиновников… Я с своей стороны употреблю моё участие.
«Понимаю», — подумал Чичиков и сказал:
— В самом деле, я, точно, хорошо не помню, есть ли там приписочка, или нет, — точно как будто и не сам писал это завещание.
— Лучше всего вы это посмотрите. Впрочем, во всяком случае, — продолжал юрисконсульт весьма добродушно, — будьте всегда покойны и не смущайтесь ничем, даже если бы и хуже что произошло. Никогда и ни в чём не отчаивайтесь: нет дела неисправимого. Смотрите на меня: я всегда покоен. Какие бы ни были возводимы на меня казусы, спокойствие моё непоколебимо.
Лицо юрисконсульта-философа пребывало действительно в необыкновенном спокойствии, так что Чичиков, много переволновавшийся в последние часы, тоже почувствовал успокоение.
— Конечно, это первая вещь, — сказал <он>. — Но согласитесь, однако ж, что могут быть такие случаи и дела, такие дела и такие поклёпы со стороны врагов, и такие затруднительные положения, что отлетит всякое спокойствие.
— Поверьте мне, это малодушие, — отвечал очень покойно и добродушно философ-юрист. Старайтесь только, чтобы производство дела было всё основано на бумагах, чтобы на словах ничего не было. И как только увидите, что дело идёт к развязке и удобно к решению, старайтесь — не то чтобы оправдывать и защищать себя, — нет, просто спутать новыми вводными и так, посторонними статьями.
— То есть, чтобы…