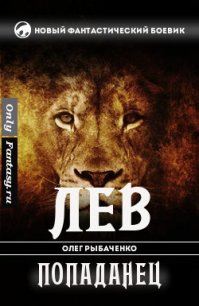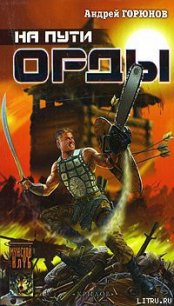Остров - Голованов Василий (лучшие книги без регистрации TXT) 📗
Исследования А.В. Барченко, ставшего сотрудником Института мозга, с конца 20-х годов были засекречены ОГПУ. В 1937-м он был арестован, в 1938-м – расстрелян. Материалы, подготавливаемые им для книги «Дюнхор», в которой он намеревался рассказать о своих открытиях, после ареста бесследно исчезли…
Теперь ответь – что было мне делать со всем этим? Положим, я обладал множеством сведений о сииртя, но приближали ли они меня к разгадке их тайны? Да и что было бы разгадкой? Я, пожалуй, догадывался: в конце концов и сам я побывал в местах премного любопытных, видывал и Сииртя-седе и Большое Сердце. Но мы с Петькой не дошли до Сердца и не прислушались к его пульсациям, мы не вопросили окрестность и не получили ответа. Ибо прикосновение к тайне и было бы ответом, который я мог бы добавить ко всей этой истории. Но для этого надо было поехать вновь на остров. И прикоснуться…
Я очень плохо соображал. Я пытался понять, что предстоит мне сделать, что для этого нужно? Получалось, что ничего. Никаких специальных приспособлений. Ни диктофона, ни фотоаппарата. Скорее с собой надо было сделать что-то, но что – я не знал. Несомненно, речь шла о свойствах пространства/времени, пространстве и времени предания, куда надо было бы мне влезть, чтобы встретить сииртя. Все дело в том, что в предании прошлое как бы не совсем проходит: оно словно сливается в другое измерение, в параллельный мир, под землю, куда, однако, можно найти ход и отсюда, из нашего мира. Ход открывается не всем и не всегда, но принципиально соприкосновение двух миров возможно. Есть определенные места, где может открыться лазейка; есть предпочтительное время – суток или года – когда контакт делается наиболее возможным…
Главный вопрос: верю ли я сам во все это? И как могу я верить, видя, что и сами-то ненцы верят с трудом, еле-еле удерживаясь от того, чтобы по нашему подобию объявить свои легенды «просто легендами», куда нет и не может быть никакого «входа»?
Помню, как мы говорили о сииртя и Алик сказал с какой-то отчаянной надеждой: «может быть, один-два еще живут где-нибудь…» Да, вся трудность в том, чтобы поверить. Приняв сказочные законы всерьез, в конце концов столкнешься с действительностью, которая так или иначе заставит считаться с собой – в этом я не сомневался. В чем я сомневался – так это в том, хватит ли у меня на это сил. Но делать нечего – летом 1997 года я отправился на Колгуев в третий раз.
И хотя цель моей командировки была определена достаточно четко для того, чтобы различные инстанции, в том числе управление погранвойск и краевая администрация способствовали ее выполнению, главным сокровищем моего багажа, единственной вещью, без которой мне нечего было делать на острове, был маленький колокольчик, который ты, возлюбленная сердца моего, дала мне в дорогу. Если читатель помнит, сииртя очень любили колокольчики: и если уж они должны были откликнуться, то на что еще, как ни на его зов?
И вот опять – вертолет, грохочущий над тундрой, солнце, рыбьей чешуей вспыхивающее то здесь, то там на поверхности моря и вдруг – ясность, голубизна неба, контрастный мартовский свет – в июле – в ослепительном сиянии которого на этот раз Остров предстает моим глазам…
Все знакомо: покривившийся маяк на кошке, тракторные следы, в разные стороны расползающиеся от прилепившегося к берегу поселочка, три линии домов, пожарная цистерна. Люди, сбившееся в кучку неподалеку от вертолетной площадки. За сто шагов от нее нет уже решительно никаких оснований утверждать, что существует Москва и прочие столицы мира. Вековые торфы подернулись первой зеленью, синие горы по-прежнему парят над горизонтом необъяснимо притягательным изломом. Земля только что вытаяла из-под покрова зимы. Мощные снежники на морском берегу придают пейзажу колорит первозданного ландшафта ледникового периода. Но желтая калужница в луже у гостиницы уже зацвела. Выходит, я попал в начало апреля – по московскому календарю.
Сколько-то времени уходит на встречи со знакомыми, на разговоры с Григорием Ивановичем, с Аликом и Толиком, которые, не спрашивая даже зачем я приехал и куда мы отправимся на этот раз, лихо срывают целлофан с пачек «Кэмела», делятся новостями и тут же начинают собираться в дорогу, будто знали, что я опять приеду сюда, обязательно приеду, хотя я ведь, честно говоря, не собирался…
Уходим в тундру. Скорее надо «вытоптать» Москву из себя: слишком тяжела душа, забитая столичными заботами. Но – быстро выходят. Ходьба по тундре – хорошее лекарство; неторопливый, целительный ритм. Тем более, идем налегке, услав рюкзаки вперед оленьей упряжкой.
Немота. Ветер, пронизывающий как ножи, ветер, громыхающий, как железо. Дует сильнее. Сильнее нельзя. Но еще сильнее. Выдувает слезы из глаз и слюну изо рта. Мы движемся в бурой чаше молчания, в долине реки, навстречу. Космы седой травы течением ветра вытянуты на юг; по отмелям струйки песка метет к берегу, прочь от серой воды ледяной. Жизнь проклюнулась в синем: незабудки, колокольчики, генициана. Кайф, какого еще не бывало – брести и брести в этом ветре в час предрассветный года. После раскаленного асфальта Москвы, толп и стрип-бара «Белый медведь» вижу, как в долине безмолвия белый лебедь, подхваченный крыльями ветра, поднимается из темной пучины озера, обрамленного кружевом снежников. Тихо рядом со мною бегут твои звери, любимая – к самой сути, в самую гущу контекста – сокол-сапсан, кулик-тулес, обладатель серебряной дудочки, и лапландский подорожник, мастер тихих гудков мелодичных…
Вперед, вперед – ступая по веточкам ивы, по бурым торфам, как по гати. Десять тысяч лет, минувших со времени последнего оледенения, десять тысяч лет ивы, морошки, мхов в отложениях, в черном бродиле болот. Ветер опять вцепился в нас на гребне холма, над снежниками курится туман. Усталость дает знать о себе знакомыми мыслями: «хватит!». Хватит балков, нар, холода, земли после великого оледенения, орнитологии и геологиии… Настолько это знакомая песня, что не стоит и обращать внимания. Просто Остров знает, что на этот раз я действительно пришел прикоснуться к тайному. И он хочет, чтобы за это прикосновение я заплатил полную цену…
За два дня дошли до Кривого озера в центре острова, вселились в покосившийся балок, наловили рыбы… На той стороне озера, километрах в пяти от нашего жилья я присмотрел два живописных холма, вполне, как сдавалось мне, пригодных для того, чтоб попытаться…
Но я еще не готов: жду то ли какой-то перемены в себе, то ли знака.
Ночью видел над озером удивительную картину: туман, после двенадцати совершенно скрывший солнце и противоположный берег, сделался так густ, что в какой-то момент можно было видеть только берег, на котором стоишь и воду, бестрепетная гладь которой постепенно растворялась в тумане, пока совсем не сливалась с ним. Но над туманом было голубое небо, светлым холодом отражавшееся в воде. Масса тумана составляла бесформенную середину картины, делая переход воды в небо совершенно свободным от каких-либо границ, горизонтов, линий. В какой-то момент показалось даже, что сквозь пустоту тумана небо провалится на меня.
Пролетел гусь, тускло отразившийся в запотевшем зеркале вод. И в этом мире воды-неба, слившихся воедино, слышны были только ночные голоса птиц. И больше ничего. Вода, пустота, отражение двух желтоватых облачков в синеве озера. Кроме нас – ни одного человека на многие километры вокруг. Какой-то фантастический покой. Подумал, не пора ли прибегнуть к колокольчику. Потом решил, что рано: я еще не выходил своего, не пропустил через себя это прекрасное, очистительное пространство.
Каждый день, уходя все дальше, я приближаюсь к тебе, любовь моя. Когда-то казалось, что мне не дойти. Ибо чем дальше я шел, тем больше оставалось, тем жестче становились никому не высказанные и никем не подтвержденные обязательства, принуждавшие меня следовать еще дальше, тем необъятнее – окружавший простор. Но знаешь – я добрался-таки до «Синих гор» Колгуева и оглядел свой остров с высоты птичьего полета. И если мне суждено еще раз оказаться в Бугрино и издалека на плоскости тундры увидеть далекие, манящие холмы, я с полным правом смогу сказать: «я был там». Ибо я был там.