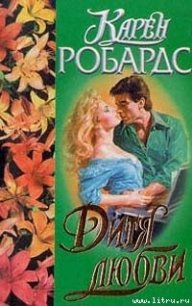Прислуга - Стокетт Кэтрин (читать книги без сокращений .txt) 📗
Да, думаю я, но на лице у меня ни один мускул не дрогнул. Я по-прежнему ищу оправдания.
— Плюнула. Мне в лицо. Черномазая. В моем собственном доме. Изображала из себя белую.
Я вздрагиваю. Какие же надо иметь нервы, чтобы решиться плюнуть в мою мать?
— Я сказала Константайн, что этой девице лучше не попадаться мне на глаза. Ни в Хотстэке, ни вообще в Миссисипи. Я не могла допустить ее близких отношений с Лулабелль, в то время как твой отец платит за дом Константайн.
— Но это ведь Лулабелль повела себя подобным образом, а не Константайн.
— А если бы она осталась здесь? Я не могла допустить, чтобы эта девица шлялась по Джексону и вела себя, как белая женщина, хотя на самом деле она цветная, да еще и рассказывала бы всем, как она была на вечеринке ДАР в Лонглифе. Я благодарю Господа, что никто так и не узнал об этом кошмаре. Она пыталась поучать меня в моем собственном доме, Евгения. А за пять минут до этого обсуждала с Феб Миллер анкету о вступлении.
— Она двадцать лет не видела свою дочь. Ты не имеешь права… запретить человеку видеться с его собственным ребенком.
Но мама уже закусила удила:
— А Константайн тоже хороша! Вообразила, что может уговорить меня изменить решение. «Мисс Фелан, пожалуйста, позвольте ей остаться дома, она никогда больше здесь не появится, я ведь так долго ее не видела». А эта Лулабелль уперла руки в боки и заявила: «Да, мой отец умер, а мама заболела и не могла обо мне заботиться. Поэтому ей пришлось отдать меня. Вы не смеете нас разлучить еще раз».
Мама начинает кашлять. Потом сухо, почти равнодушно, продолжает:
— Я взглянула на Константайн, и мне стало так стыдно за нее. Сначала забеременеть, потом лгать…
Мне уже дурно. Скорей бы это закончилось.
— Пора тебе узнать, Евгения, — ядовито заявляет мама, — как в действительности обстоят дела. Ты слишком идеализируешь Константайн. Всегда идеализировала. Пойми, они не такие, как нормальные люди.
У меня нет сил смотреть на нее. Прикрываю глаза.
— И что же произошло потом, мама?
— Я спросила Константайн, вот так в лоб и спросила: «Ты ей так объяснила? Попыталась прикрыть собственный грех?»
Как я надеялась, что это окажется неправдой. Как надеялась, что именно в этой части Эйбилин ошиблась.
— Я рассказала Лулабелль правду. Сказала: «Твой отец не умер.Он бросил вас сразу после твоего рождения. А твоя мамаша никогда в жизни не болела. Она отдала тебя в приют, потому что ты родилась почти белой. Она не хотела такого ребенка».
— Почему ты не позволила ей продолжать верить в рассказ Константайн? Господи, Константайн же боялась, что дочь возненавидит ее, поэтому и придумала это объяснение.
— Потому что Лулабелль должна была знать правду. Ей следовало вернуться в Чикаго, вернуться туда, откуда явилась.
Закрываю лицо ладонями. Оправданий не нашлось. Теперь я понимаю, почему Эйбилин не хотела мне рассказывать. Ребенок не должен знать такого о своей матери.
— Я не могла предположить, что Константайн уедет с ней в Иллинойс, Евгения. Честно говоря, я… расстроилась, что она уехала.
— Не расстроилась, — равнодушно возражаю я. А сама думаю о Константайн, как она, пятьдесят лет прожив на просторе, в деревне, вдруг оказалась запертой в крошечной квартирке в Чикаго. Как одиноко ей там, наверное. Как болят колени в чикагской промозглости.
— Нет, расстроилась. И хотя я просила ее не сообщать ни о чем тебе, она, возможно, все равно написала бы, если бы у нее было больше времени.
— Больше времени?
— Константайн умерла, Евгения. Я послала ей чек, ко дню рождения. На адрес ее дочери. Но Лулабелль… вернула чек. Вместе с копией некролога.
— Константайн… — рыдаю я. Я должна была понять. — Почему ты не рассказала мне, мама?
Мама шмыгает носом, стараясь глядеть прямо перед собой. Смахивает слезинку.
— Потому что знала, что ты будешь меня обвинять, а между тем… я ни в чем не виновата.
— Когда она умерла? Сколько она прожила там, в Чикаго?
Мама подтягивает поближе горшок, прижимает его к себе:
— Три недели.
Эйбилин отпирает заднюю дверь, впускает меня в дом. Минни сидит за столом, помешивает кофе. Завидев меня, опускает рукав платья, но я успеваю заметить краешек белой повязки на ее руке. Буркнув приветствие, Минни утыкается в свой кофе.
С глухим ударом опускаю рукопись на стол.
— Если отправить утром, останется еще шесть дней. Мы вполне можем успеть. — С трудом, но улыбаюсь.
— Господи, вот это да. Взгляните только, — усмехается Эйбилин, присаживаясь на табуретку. — Двести шестьдесят шесть страниц.
— Теперь нам остается только… ждать, — говорю я, и мы втроем молча смотрим на стопку исписанных листов.
— Наконец-то, — роняет Минни, и на лице ее мелькает — нет, не улыбка, скорее, удовлетворение.
В комнате тихо. За окном темно. Почта уже закрыта, поэтому я принесла рукопись Эйбилин и Минни, показать в последний раз перед тем, как отправить.
— Что, если все выяснится? — тихонько спрашивает Эйбилин.
Минни устремляет на нее взгляд.
— Что, если люди догадаются, что Найсвилль — это Джексон? Или угадают, кто есть кто?
— Не догадаются они, — бормочет Минни. — Не такое редкое место наш Джексон. Десять тысяч городов таких же.
Мы давно об этом не говорили и, если не считать комментарии Минни насчет отрезанных языков, никогда не обсуждали реальные последствия. Последние восемь месяцев забота была одна — вовремя дописать книгу.
— Минни, тебе нужно подумать о детях, — произносит Эйбилин. — И Лерой… если он узнает…
Уверенность в глаза Минни сменяется странным, почти истеричным выражением.
— Лерой с ума сойдет, это уж точно. — И вновь поддергивает рукав. — Взбесится, а потом огорчится, если белые поймают меня раньше.
— Думаешь, стоит подыскать место, куда можно сбежать… если обернется бедой? — волнуется Эйбилин.
Они размышляют некоторое время, потом дружно качают головами.
— Не представляю, куда нам бежать, — подводит итог Минни.
— Вам надо о себе подумать, мисс Скитер. Вам-то есть куда уехать?
— Я не могу оставить маму, — возражаю я, опускаясь наконец на стул. — Эйбилин, вы действительно считаете, что они могут… навредить нам? Ну, в смысле, как в газетах пишут?
Эйбилин смущенно склоняет голову набок. Она морщит лоб, словно силясь объяснить:
— Они убьют нас. Заявятся с бейсбольными битами. Может, и не совсем убьют, но…
— Но… кто на такое способен? Белые женщины, о которых мы писали… они же не могут…
— Разве вы не знаете? Белые мужчины этого города больше всего на свете любят «защищать» своих женщин?
Чувствую озноб. Я боюсь не за себя, но за Эйбилин, за Минни. За Ловинию, Фэй Белль и еще восьмерых женщин. На столе лежит книга, которую мне хочется затолкать в сумку и спрятать подальше.
Но вместо этого я оборачиваюсь к Минни. Мне кажется, лишь она одна действительно понимает, что может случиться. Минни о чем-то задумалась, поглаживая губы большим пальцем.
— Минни, а вы что скажете?
Она пристально смотрит в окно, кивая в такт собственным мыслям.
— Мне тут пришло в голову… нам нужна страховка.
— Какая страховка? — удивляется Эйбилин.
— А что, если мы напишем в книге про Кошмарную Ужасность? — предлагает Минни.
— Нет, Минни. — пугается Эйбилин. — Это выдаст нас с головой.
— Но если мы поместим в книжке этот рассказ, мисс Хилли никому не позволитсказать, что в ней написано про наш Джексон. Она не захочет, чтоб люди догадались, что история-то про нее. А если вдруг начнут подбираться к разгадке, она все сделает, только бы направить их в другую сторону.
— Боже, Минни, это чересчур рискованно. От этой женщины всего можно ждать.
— Никто не знает об этой истории, кроме мисс Хилли и ее матери, — продолжает Минни. — Ну да еще мисс Селия знает, но у нее нет подруг, которым можно было бы рассказать.