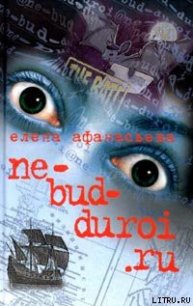Театр тающих теней. Конец эпохи - Афанасьева Елена (читать книги без регистрации TXT, FB2) 📗
Набоков-старший снова как на трибуне Таврического. Воодушевлен. И энергичен. Не по-доброму энергичен. По-злому.
– Нам едва позволяют закончить заседание. Договоренность – продолжить на следующий день. А двадцать девятого ноября выхожу из дома и по дороге в Собрание на афишной тумбе читаю декрет этой, с позволения сказать, власти: «Арест и привлечение к суду всех руководителей кадетов – партии врагов народа!»
– О господи! – трет виски мать! – А вы еще уезжать в сентябре не хотели!
Снова многозначительный взгляд матери в сторону Анны, полный подтекста, что, конечно же, это она, мать, всех из погибающей столицы вывезла и всех их спасла. И обратно подчеркнутое внимание к Владимиру Дмитриевичу.
– Так как же вы выбрались?
– Невероятное везение. Сразу же иду на станцию. В конторе спальных вагонов получаю билет первого класса и место до Симферополя. Домой возвращаться опасно, чую, что могут арестовать в любой момент. По телефону – чудом работает! – отдаю распоряжение слуге принести мои вещи на вокзал, и тот приносит их, можете себе представить, в заплечном мешке. В мешке!!! Так с мешком и еду!
– А как же теперь Софья Владимировна? – спрашивает мать о судьбе графини Паниной, хозяйки Гаспры, где теперь живут Набоковы.
– Велела передать, что в ее имении нам рады, но сама она не будет искушать судьбу, не поедет в Крым. – Владимир Дмитриевич оборачивается к сыну. – Так и расположились мы в Гаспре. Помогли старому слуге донести тяжелую кушетку из дома самой Софии Владимировны в флигель у фонтана, где мы квартируем. Тогда я сказал Володе: «Вот так ты понесешь мой гроб к могиле»!
– Будущее увидели, – отзывается Савва.
Мать, как обычно, бросает на недоросля недобрый взгляд и спешит загладить его неловкость.
– Бог с вами, Владимир Дмитриевич! – Руки матери взлетают в изумлении вверх. – Как можно такое говорить! Тем более сыну!
– Володя, наслушавшись моих рассказов, целую оду «К свободе!» написал. «И, заслоняя взор…» Как там, Володя?
– «И, заслоняя взор локтем окровавленным…»
– «Обманутая вновь, ты вновь уходишь прочь, / А за тобой, увы, стоит все та же ночь…», – из Саввиного угла с бабочками и гербарием подает голос Набоков-младший.
– Не ода! Это не ода! – не может не уточнить Савва. – Ода – торжественное стихотворение, посвященное какому-либо событию или герою, присущее, преимущественно, эпохе классицизма, а у Володи…
Анна не выдерживает и выходит.
Получасом позже, покормив Ирочку, отдав ее на руки няньке Никитичне и велев гувернантке с Олей и Машей читать из Киплинга, Анна спускается в гостиную.
Мать всё спорит с Набоковым теперь уже о волнах петроградского переворота, докатившихся до полуострова.
– Но позвольте! Был же сформирован Таврический губревком во главе с членом партии кадетов! Комиссаром Временного правительства стал ваш сторонник Богданов! Как вы можете такое сотрудничество объяснить?!
– У вас устаревшие сведения, любезная Софья Георгиевна! Кадет во главе губревкома никого не устраивал – ни их, ни нас! Его уже сменил Бианки, правый социалист. – Набоков-старший оглядывается по сторонам в поисках сына.
– Володя гуляет. С Саввушкой, – успевает подсказать гостю муж Анны, наверняка зная, что уходили мальчики вместе, но каждый из них явно гуляет по одиночке. Такие уж они оба – отшельники.
Владимир Дмитриевич кивает, не отвлекаясь от спора.
– Опаснее Всекрымский съезд Советов, созыв которого губревком назначил на шестнадцатое сего месяца. Уверен, он признает всё случившееся в Петрограде преступной авантюрой! Но в нынешней ситуации, голубушка, Софья Георгиевна, мы просто обязаны призвать все антибольшевистские силы к консолидации.
– Владимир Дмитриевич, объясните, что за «канцелярия военного директора» и кто он такой, этот Дж. Сейдамет? – включается в политический разговор уже и муж Анны. – И по какой причине генерал Врангель от командования войсками отказался?
– Петр Николаевич счел всё происходящее в здешних так называемых вооруженных силах Крымского революционного штаба «типичной керинщиной». Где мыслят иметь армию, демократизированную с соответствующими комитетами и комиссарами! И заявил, что ему с ними не по пути…
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})– Так долго продолжаться не может! – Мать вся на котурнах. – Вы читали, что пишет Ильин. Послушайте! – И начинает зачитывать с пафосом: – «Разрушены железные дороги, приостановлена почти работа телеграфа. Жизнь как бы замерла, здоровое биение пульса страны остановилось». И дальше: «Вместо творческой созидательной работы у нас растет и множится анархия, всюду дикий разгул разъяренной толпы, разбои, грабежи, самосуды, расстрелы, всюду хаос и разрушение, идет братоубийственная война, улицы городов залиты кровью уничтожающих друг друга людей, всюду безумие и ужас. И кто знает, когда кончится эта сатанинская пляска. Дошли ли мы до той последней черты, переход которой знаменует собой перелом в сторону отрезвления и сознательного отношения масс к судьбам страны? Или нам суждено пережить еще большее развитие ужасов анархии?»
Скучно. Ничего из того, о чем спорят мать, муж и Набоков, Анна не понимает. Не дослушивает, берет шаль, идет к выходу через кухню, чтобы с гостями в разговоры не вступать.
– Барышня, замерзли? – суетится истопник Федот.
В материнском имении, сколько детей она ни роди, ее, похоже, никогда не перестанут звать «барышней».
– Так мы того, живо огоньку прибавим!
Но холод не от водяных батарей, которые из-за нынешних перебоев с электричеством то греют, то не греют, и приходится Федоту по старинке печи топить. Холод, он где-то внутри.
Снова идет к «своей» скале. Ребенка в ней уже нет, но декабрьская вода куда холоднее, чем в день ее приезда в сентябре.
Море штормит – ни следа от встретившей ее двумя месяцами ранее идеальной иссиня-черной прозрачной глади. Штормит и пугает. Уже не то море, которое манило ее броситься с разбега со скалы.
Волна за волной несет тяжелую обреченную силу, чтобы разбить ее о каменистый берег. И отступить, увлекая тысячи камней за собой, своей обессиленностью создавая преграду для волны следующей. Такого моря Анна прежде не видела. Да и зимой в крымском имении прежде никогда не бывала.
Теперь уже ничего не вызывает желание броситься в воду. Напротив, близость обрыва пугает. Что изменилось в этом воздухе? Что-то сломалось? Что перечеркнуло радость последних недель?
Шорох за кустарником олеандра рядом. Анна обходит его с другой стороны. Кутается в теплую шаль.
Там Савва. Ловит разлетающиеся от порыва ветра, испещренные странными записями, рисунками, чертежами листы и листочки. Анна помогает племяннику мужа собрать улетевшие страницы. Смотрит на последний из поднятых ею листов.
– Отчего такой непонятный рисунок, Саввинька? – Отдает собранные страницы, случайно касаясь его холодной руки.
Подросток опускает глаза. На нее не смотрит.
– Понятный! – упрямо не соглашается чудаковатый племянник мужа. – Его иначе нужно смотреть. На свет.
Солнце зашло. Света нет.
– Хорошо, я при лампе вечером погляжу. Покажешь, как смотреть?
Кивает молча.
Анна собирается уходить, но через несколько шагов оборачивается.
– Отчего ты про семьдесят лет сказал, Савва? Когда все гадали, сколько эта смута продлится.
– Услышал.
– Что услышал? Откуда?
– Не знаю. Услышал.
Откуда услышал, если никто в гостиной тогда ничего подобного произнести не мог? Мать говорит про Савву «не от мира сего». А если не от мира «сего», то от мира какого?
Или он услышал там, где прорицательница берет свои предсказания, и где она сама прежде брала свои стихи. Слышала. Не сочиняла – слышала, едва успевая записать.
Отчего такая тревога возникает внутри?
И еще эта «Аврора» никак из ума не идет.
И Саввины слова про семьдесят лет.