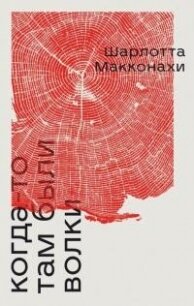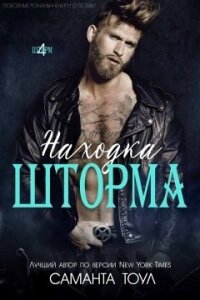Миграции - Макконахи Шарлотта (лучшие книги .txt, .fb2) 📗
Я обдумываю. Не бездорожные чащи и не прибой волн уводят его из дома — уводит нужда.
— И много он нынче рыбы находит? — спрашиваю я.
Самуэль неловко пожимает плечами.
— Раньше много находил. Все хотели работать на Энниса Малоуна. Сельди было хоть завались. А теперь оно непросто. Мир катится к концу, прямо сейчас. Худо дело. — Он смотрит на меня. — Нет у нас времени гоняться за птичками по всему миру.
Я не повторяюсь: я им уже сказала, что птицы приведут нас к рыбе. Они мне не верят. Они верят в суеверия и в распорядок. Верят в то, что плавать нужно по знакомым океанам.
— Сегодня, айсберг-то этот — так, ерунда, — говорит Самуэль. — Как попадем в Гольфстрим, будет хуже.
— Почему?
— Он соединяется с Лабрадорским течением, оно подбросит нас к югу. Это два самых мощных течения в мире, и они движутся в противоположных направлениях. — Он затягивается, красный кончик сигареты мерцает красным во тьме. — Когда попадаешь в точку, где они соприкасаются… — Самуэль трясет головой. — На многое рассчитывать не приходится. Атлантика — зверюга, не океан. Эннис мне сказал, что почти всю жизнь по нему ходит, да так почти ничего про него и не узнал.
— Эннис, похоже, много чего говорит — всем, кроме меня.
Самуэль бросает на меня косой взгляд, а потом, вытянув руку, дружелюбно похлопывает меня по плечу:
— Ты у нас совсем новенькая, девонька. А он при деле.
— Он бесится.
— Если он и сожалеет о своем решении, на тебе отыгрываться не станет. Он не мелочный. Слушай, я на самом деле другое хотел спросить, подруга: а ты сама-то в себе уверена? Прыгнуть на морское судно без всяких навыков выживания — прямой путь в могилу. Впрочем, и с навыками примерно то же самое.
— Ты же выжил. — Подозреваю, что под дородным телом прячутся проворные ноги.
— Кажется мне, что госпожа Удача может в любой день передумать на этот счет.
Я пожимаю плечами:
— Ну, Самуэль, что тут сказать. Если я помру тут, на судне, значит, такая моя судьба, верно?
— Гм.
— Что «гм»?
Он смотрит на меня с толикой нежности:
— Чего это такая молодая — и так устала от жизни?
Не получив ответа, он обнимает меня. Я так удивлена, что даже не возвращаю ему объятие. Как мне представляется, на свете очень мало людей настолько щедрых на нежность.
Я не ухожу вниз вместе со старым моряком. Вместо этого пытаюсь понять, что он во мне разглядел, и заранее знаю, что он ошибся. Я не от жизни устала, со всеми ее изумительными океанскими течениями, ледяными слоями и нежными перьями, складывающимися в крыло. Я устала от себя. Существуют два мира. Один состоит из земли и воды, камней и минералов. У него есть ядро, мантия и кора, в нем есть кислород, чтобы дышать.
Другой состоит из страха.
Мне довелось жить в обоих, и я знаю, что один обманчиво похож на другой. Только понятно это становится слишком поздно, когда смотришь в глаза другим пленникам, пытаясь понять, стоит ли в них смерть, вглядываясь в каждое встреченное лицо, вслушиваясь в сердитый гул, чтобы уловить, ты ли ее следующая жертва, когтя стены своей темницы, чтобы освободиться, вырваться к воздуху и небесам и, очень прошу, — не в эту тесную могилу.
Мир страха хуже смерти. Он хуже всего.
Он добрался до меня снова, в глубинах Атлантики, в качку, в каюту.
Сегодня первая ночь, когда я не могу заснуть.
— Кроющие перья, — шепчу я, стуча зубами, — маховые перья, рулевые перья, плечевые, спинные, затылок, макушка — блядь. — Я резко сажусь, потому что нынче даже эта мантра не помогает, не успокаивает, не уравновешивает — не спасает от вязкого ужаса этой безнебесной комнатушки.
Я зажигаю походный фонарик, пристраиваю его на рюкзак, чтобы свет падал на лист блокнота.
«Найл, — корябаю я. Нужно обуздать полновесную паническую атаку. — Где твои легкие, когда они мне нужны? Где твоя рассудительность, твое несокрушимое спокойствие?
Прошла неделя с лишним, мы выбрались изо льдов. Идем к Лабрадорскому течению, Самуэль говорит — там опасно. Говорит, в океане вообще опасно. Вряд ли бы тебе это понравилось. Мне кажется, ты слишком любишь твердо стоять ногами на земле, но море похоже на небо, мне на обоих не насмотреться. Когда я умру, не хорони меня в земле. Развей по ветру».
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Я останавливаюсь — глаза заволокло слезами. Это письмо я не отправлю вместе с другими. Его напугают мои слова о смерти.
— Свет погаси, блядь, — рявкает со своей койки Лея.
Я шарю в рюкзаке, отыскиваю снотворное. Его не положено принимать поверх алкоголя, но мне сейчас все пофиг. Проглатываю таблетку, сжимаю веки. Кроющие перья, маховые перья, рулевые перья, плечевые, спинные…
Просыпаюсь. Я повисла в двух дюймах над морем. Оно ревет, черное, бездонное, ледяные брызги летят в лицо. В первый миг сон выглядит безупречно убедительным, а потом он проходит, и я понимаю, что не сплю, и вздрагиваю так сильно, что едва не срываюсь.
Я цепляюсь за веревочный трап, по которому спускался Эннис. Раскачиваюсь возле корабельного корпуса. Костяшки пальцев побелели, застыли, а слоев одежды на мне мало, совсем мало.
Я сюда забрела во сне.
Собираюсь рывком вытянуть себя наверх, но вместо этого замираю. Я и раньше оказывалась в странных местах, но никогда — в таких экстремальных и опасных. На миг, впервые за много лет, я ощущаю себя живой. Впервые, если честно, с той ночи, когда от меня ушел муж.
Говоря по правде, первой-то от него ушла я — уходила столько раз, что и не сосчитать.
— Жуткая у тебя сила воли, — сказал он мне как-то. Это правда, но я от этого страдала куда дольше, чем он.
Трап ползет вверх, вытягивая меня из моря. Кто-то запустил лебедку, я поднимаюсь помимо собственного желания. В первый момент хочется убить того, кто это сделал. Потом мысли меркнут, в тело впивается холод. Руки подхватывают меня — кучку конечностей. Просверк залитой лунным светом кожи сообщает, что это Лея — ее долгого костяка хватает, чтобы подпереть мое безвольное тело. Ноги едва держат, так что она делает это за меня.
— Какого хрена.
— Все в порядке.
— Замерзаешь, блин. — Она волочет меня по палубе, подхватывая, когда я спотыкаюсь. — Какого ты хрена бесишься, Фрэнни, — произносит она, причем это не вопрос. — Что у тебя в башке.
Нам удается спуститься по трапу. Зубы мои — крошечные молоточки. В ванную, в душ, где так тесно, что мыть голову приходится стоя снаружи. Лея стягивает с меня свитер, толкает под струю горячей воды. Жжет страшно — я прикусываю язык, у него вкус меди. Колени подгибаются, Лея успевает меня подхватить и опустить на пол — мы обе промокли и обожглись, перепутанная куча выступов, заледеневших, горящих и во всех промежуточных состояниях.
— Что у тебя в башке? — повторяет она, и теперь это вопрос.
Я выдыхаю смешок:
— У тебя времени много?
Руки Леи смыкаются крепче, переходят в объятие.
Больше у меня сил нет ни на что, я произношу только:
— Прости, — причем от всей души.
4
ИРЛАНДИЯ, ГОЛУЭЙ,
ИРЛАНДСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ.
ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД
— Птиц мы съели, — говорит он. — Просто съели. Хотели, чтобы песни их лились сквозь наше горло и вылетали изо рта, поэтому и съели. Хотели, чтобы перья их прорастали сквозь нашу кожу. Хотели заполучить их крылья, хотели летать, как они, парить над деревьями и облаками, поэтому мы их и съели. Мы их кололи острогами, били дубинками, приманивали на клей, ловили в сети, насаживали на вертел, бросали на горячие угли — и все во имя любви, мы же их любили. Мы хотели слиться с ними воедино.
В огромной аудитории тишина. Он кажется совсем маленьким — там, за кафедрой. Но он достаточно велик, чтобы заполнить все пространство. Ему хватает на это громкости и мощи. Мы впитываем каждое его слово, даже если слова эти не его, даже если он повторяет то, что уже сказала Маргарет Этвуд.
— Они жили на земле двести миллионов лет, — говорит он, — и до недавнего времени их было десять тысяч видов. Они эволюционировали, чтобы лучше искать пищу, перемещаться на расстояния большие, чем способны любые другие животные, и таким образом выживать, — в итоге они населили всю землю. От гуахаро, которые жили в пещерах совсем без света, до горных гусей, которые размножались только на недоступном тибетском плато. От рыжих селасфорусов, которые выживают на ледяных пиках высотой четыре с лишним тысячи метров, до африканских сипов, которые летают на той же высоте, что и большие самолеты. Эти изумительные создания, безусловно, преуспели больше всех на земле, потому что им хватило отваги научиться существовать где угодно.