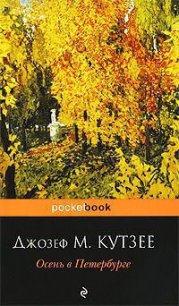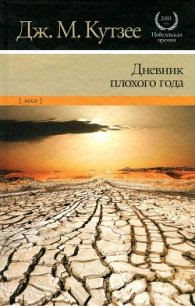Осень в Петербурге - Кутзее Джон Максвелл (бесплатные серии книг .txt) 📗
— Очень хорошо. Но прежде чем я уйду, не позволите ли мне поступить вопреки моим же словам и сказать вам о нечаевцах нечто для вас неожиданное? Потому что я, по крайней мере, видел и слышал самого Нечаева, чем вы — поправьте меня, коли я ошибаюсь, — похвалиться не можете.
Максимов вопросительно вскидывает голову.
— Продолжайте, прошу вас.
— Нечаев — дело вовсе не полицейское. В сущности говоря, Нечаев вообще не дело властей, во всяком случае властей мирских.
— Продолжайте, продолжайте.
— Вы можете выследить Сергея Нечаева и упрятать его в тюрьму, но нечаевщины вы этим не уничтожите.
— Согласен. Согласен с вами совершенно. Нечаевщина — мысль, в нашей стране весьма распространившаяся. Он сам — лишь телесное ее воплощение. И уничтожить ее не удастся, пока не наступят иные времена. Наша же цель поскромнее и попрактичнее — уяснить, насколько широко мысль эта разошлась, и там, где она укоренилась, не позволить ей претвориться в деяния.
— Вы меня все же не поняли. Нечаевщина — не мысль. Она отрицает мысль и пребывает за пределами ее. Это дух, и сам Нечаев не воплощение его, а вместилище или, вернее, человек, этим духом одержимый.
Выражение максимовского лица остается непроницаемым. Он делает еще одну пробу.
— Когда я встретил в Женеве Сергея Геннадиевича Нечаева, он поразил меня как невзрачный, угрюмый, откровенно заурядный молодой человек посредственного ума. Не думаю, чтобы это первое мое впечатление было ошибочным. Но вот в эту-то невзрачную оболочку и вошел некий дух. Впрочем, и в самом духе замечательного мало. Тупой, обидчивый, кровожадный. Почему он предпочел вселиться именно в этого молодого человека? Не знаю. Быть может, потому, что счел оболочку удобной, потому, что ее легко покидать и легко в нее возвращаться. Однако как раз оттого, что в Нечаеве сидит этот дух, сам Нечаев и приобретает последователей. Их привлекает дух, не человек.
— И как этот дух зовется, Федор Михайлович?
Он пытается зримо представить себе Сергея Нечаева, но видит лишь воловью голову — остекленелые глаза, вывалившийся язык, череп, расколотый топором мясника. И тучу мух. Имя приходит к нему, и он в тот же миг произносит его:
— Ваал.
— Любопытно. Метафора, надо думать, и не весьма к тому же внятная. Ваал. Вынужден, однако ж, задать себе вопрос: будет ли какой-нибудь толк от этих разговоров о духах, об одержимости духами? Будет ли толк даже от разговоров о мыслях, расходящихся по стране, точно у них руки и ноги имеются? Чем они помогут нам в наших заботах? Чем помогут России? Вы говорите, что нам не следует сажать Нечаева под замок, поскольку он-де бесом одержим (не назвать ли нам его «бесом»? В «духе», с дозволения вашего, присутствует нота отчасти фальшивая). Но как же нам-то при такой оказии поступать? Мы ведь, если на то пошло, не орден мистических созерцателей, мы — следственная часть.
Наступает молчание.
— Я ничуть не желаю отмахиваться от сказанного вами, — вновь нарушает тишину Максимов. — Вы человек, одаренный способностью к особливым озарениям, я это знал и до знакомства с вами. А эти дети-заговорщики определенно и в сравнение ни в какое не идут со своими предшественниками. Они себя едва ли не бессмертными почитают. И с этой точки они действительно похожи на драчливых бесов. Да и безжалостных, к тому же. Это у них, так сказать, в крови — желать нам зла, нашему то есть поколению. Они с этим желанием на свет родились. Нелегко быть отцом, не правда ли? Я и сам отец, но у меня, по счастью, дочери. А иметь в наш век сыновей — слуга покорный. Впрочем, и с вашим отцом, кажется… там ведь, кажется, какая-то неприятность вышла с вашим отцом, или меня память подводит?
Из-под приопущенных белых ресниц Максимов бросает на него острый взгляд и, не дожидаясь ответа, продолжает:
— Вот я и гадаю, так ли уж, в последнем-то счете, много в Нечаеве от помраченного духа, как вы, сдается мне, изволите утверждать? Быть может, дело сводится все же к вековечной нашей распре отцов и детей, которая только стала в нынешнем поколении более ожесточенной и непримиримой. А в этом случае самые простые средства, возможно, будут и самыми разумными: следует просто скрепиться и ждать, когда они повзрослеют. В конце концов, были же у нас декабристы, были люди сорок девятого года. Декабристы, те, что еще живы, теперь старики, и я уверен, какие бы бесы их ни смущали, все давно уже расточились. Или вот тот же Петрашевский со товарищи, что вы о них думаете? И их тоже бес попутал?
Петрашевский! Для чего он помянул Петрашевского?
— Не могу согласиться с вами. То, что вы называете феноменом Нечаева, обладает особой окраской. Нечаев — человек кровавый. А люди, которых вы удостоили воспоминания, были идеалистами. Они потерпели поражение, потому что, к чести их, не имели достаточной наклонности к интригам и уж к крови определенно не тяготели. Петрашевский — раз уж вы упомянули о Петрашевском
— с самого начала отверг иезуитство того рода, что оправдывает средства целью. Нечаев же иезуит, светский иезуит, совершенно открыто провозглашающий доктрину цели, оправдывающей самое циническое злоупотребление энергией его приверженцев.
— В таком случае я чего-то не понимаю. Объясните мне сызнова: отчего мечтателей, поэтов, образованных молодых людей, подобных вашему пасынку, притягивают разбойники вроде Нечаева? Потому как, по вашему-то описанию, что же получается? Нечаев всего-навсего разбойник, едва-едва нахватавшийся вершков образования?
— Не знаю. Возможно, оттого, что в молодежи присутствует нечто, еще не уснувшее, и именно то, к чему взывает дух, обуявший Нечаева. Возможно, оно и во всех нас присутствует, что-то такое, что мы почитаем умершим много столетий назад, а оно не умерло, оно только спит. Я повторяю: не знаю. Я не способен объяснить связь моего сына с Нечаевым. Для меня она неожиданна. Я пришел к вам только затем, чтобы забрать бумаги Павла, составляющие для меня ценность, которой вы уразуметь не сможете. Только бумаги, ничего больше. И я спрашиваю вас сызнова: вернете вы мне эти бумаги? Для вас они бесполезны. Вы ничего из них не узнаете о том, почему образованные молодые люди подпадают под влияние горстки преступников. И вам, именно вам, они скажут меньше, чем кому бы то ни было, потому что вы определенно не знаете, как их читать. Позвольте уж мне сказать: все то время, пока вы читали мне рассказ сына, я видел, что вы стараетесь от него отстраниться, отгораживаетесь насмешкой, точно боитесь, что слова выскочат из страницы, набросятся на вас и станут душить.
Произнося эти слова, он чувствует, как в нем разгорается некий огонь, ему приятный. Он принаклоняется к Максимову, вцепившись в подлокотники кресла.
— Что вас так сильно пугает, господин Максимов? Когда вы читаете о Карамзине или Карамазове — как бишь его? — о том, как треснул, точно яйцо, бледный череп Карамзина, что происходит с вами — страдаете вы вместе с ним или втайне восторгаетесь рукой, взмахнувшей топором? Не отвечаете? Ну так я вам скажу: настоящее чтение в том-то и состоит, чтобы становиться и рукой, и топором, и черепом. Читать — значит забывать о себе, а не стоять в сторонке, посмеиваясь. Спроси я вас об этом прямо, вы, верно, ответили бы, что охотитесь за Нечаевым для того, чтобы предать его суду с соблюдением положенных формальностей, с защитой и обвинением и прочим, а там и запереть до скончания его дней в чистой и светлой камере. Но загляните-ка в себя, этого ли вы хотите на самом деле? Не подмывает ли вас попросту снести ему голову и потоптаться в его крови?
Раскрасневшийся, он откидывается на спинку кресла.
— Вы человек чрезвычайно умный, Федор Михайлович, и однако ж говорите о чтении так, словно в вас в самих бес вселился. Боюсь, по таким меркам читатель из меня и впрямь никудышный — туповатый и воспарить не способный. Однако при всем том я, слушая вас, поневоле начал гадать, не в лихорадке ли вы часом. Если бы вы сейчас увидели себя в зеркале, вы, наверно, поняли бы, что я имею в виду. Ну-с, разговор у нас получился долгий, любопытный, но долгий, а у меня между тем множество дел, и дел неотложных.