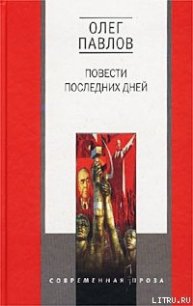Дело Матюшина - Павлов Олег Олегович (книги серии онлайн .txt) 📗
Доедали все, что везли. Жрали и пили не продыхая. Столик был завален колбасами, курятиной, консервными банками, майскими хилыми овощами. Тут же вино, пиво, водка – и не прятались даже, не прятали бутылок. Верно, безумие это началось в пути еще днем – с той припасенной водки и того винища началось, а потом все запасы, все деньги пошли в расход. Голодный, спросонья, не разбирая, что хватает, Матюшин накинулся на чужую еду, глотая кусками что-то теплое, нежное. А Ребров ему уже наливал, уговаривал:
– Выпей – за наш родной Ельск! Водочку, водочку, а вина этого кислого мы пить не будем. Пусть они пьют, слыхали, пейте сами свою кислятину! – крикнул он кому-то, размахнулся бутылкой, спьяну не удержавшись и повалившись на чьи-то тела.
Пьяный вагон гудел, веселя Матюшина. После жратвы, водки теперь захотелось курить, и Ребров взялся вести его в тамбур, прокладывая дорогу, храбрясь:
– Расступись! Пришибу!
Команда их занимала полвагона, смешавшись с гражданскими, с нерусскими. Тут ехали те, которых Матюшин и не знал, как называть, с копчеными скуластыми лицами. Много было стариков и старух, опрятно одетых, что сидели, забившись в уголки, и пугливо, улыбчиво глядели на него снизу, задирая костистые круглые головки. Бегали и орали на своем языке, точно хрипели, ихние дети: бритоголовые, голые, а кто повзрослей – в трусах, похожие смуглостью на чертят. Никто детей не одергивал, не запрещал им орать и бегать, будто ехали они сами по себе, без родителей. Пройдя узкой стежкой – чудилось, по-над пропастью этого народца, – зашли они в тупик вагона, где занял место и бдил у дверки в тамбур капитан.
Причесанный, точно зализанный, он сидел за пустым, без еды, столиком, читая натощак не первой свежести, читанную уж газетку, а с ним томились, тихли подле него трое попутчиков-призывников. Тут, в его углу, царил укромный строгий порядок, какого не было и духа в кишащем людьми, распахнутом настежь да пьяном остальном вагоне: висели по местам вещи, сидели по местам люди. Верно, есть капитану было нечего, порастратился. Домашний, помолодевший, уже не задраенный в китель, а вылезший из него на свободу, в летней офицерской рубашке, но в дорожной неволе, выглядел он командировочным, точно и посторонним человеком.
– Товарищ капитан, Федор Михайлович, мы перекурить! Разрешите выйти в тамбур? Вот земляка встретил! – притворно радуясь, чуть не придавливая, ринулся грудью на капитана ельский, от которого и так несло за версту.
– Иди кури… – буркнул капитан и уткнулся сердито в газету, замечать не желая пьяных рож.
Ельский попятился, угодливо лыбясь, спиной. А за спиной, не видимая капитану, торчала заткнутая за ремень бутылка. Так он умыкнул ее в исчадье грохочущее плацкартного вагона – в тамбур. Разогнулся, выдернул и, блажной, потрясая ею, загоготал в черноту:
– Купился, капитоха, купился! Налетай!
В тамбуре сгрудилось народу видимо-невидимо. Надрывали глотки, кричали, братались, радовались, что везут в теплые края служить, хоть в тамбуре было черно да одиноко, как в глубокой яме. Матюшин вслушивался, не видя в табачном дыму лиц. Но вдруг распознал ясно, что все тут боятся. Потому и не могут молчать, что боятся. Потому никто здесь не мог и заснуть или хоть прилечь на нары отдохнуть, а шатались, бились в бессонной жорной горячке, что боялись. Отняв у кого-то бутылку, Матюшин глотнул водки, но, сколько ни вливал он потом в себя, опьянеть не мог – все куда-то испарялось. Даже и весело ему было не от выпитого, а потому что все кругом орали, не спали, жрали – с ума посходили от своего страха. Точно видишь толпу голых и смешно, что голые они да еще и скачут.
В тамбуре прилепился к Матюшину нерусский мужик, из этих, братались ведь и с ними. Он тоже что-то принялся вспоминать, спросив сигаретку. Был он безликий, гладкий, точно сострогали лицо. Матюшину виделся ярко только его рот, который вспыхивал багряно, когда затягивался сигареткой. Маленький, детского росточка, но крепенький, широкогрудый. Одет небогато, но светло, в светлых рубахе и брюках. Но подумалось Матюшину, что ничего у него, кроме рубахи с брюками, нет в жизни. Что он так всю жизнь ездит на поездах да снашивает их – пропащий человек, без места в жизни.
– У меня два шрама на теле от армии осталось, зубы спереди выбили. Но я не держу на армию зла. Я считаю правильным, что меня били. Во-первых, я узбек, а узбеки многие тупые бывают, без кулака не понимают, поэтому и отправляют служить в стройбат. Во-вторых, если бы меня не били, то я бы ничего делать не стал. Кто меня бил, я тех уважаю, я сильных уважаю людей.
– Узбек! Узбек! – смеялся Матюшин, довольный, что теперь знает, и хлопал его по плечу. – Ну давай рассказывай мне! Я тебя слушаю! – Ему приятно было слушать, его как ветерком обдувало.
Мужика никак не смущало, что Матюшин им завладел. Ему этого и хотелось – быть нужным, за кого-то зацепиться. Говорил он ясной речью, что изливалась из него ручьями, откуда-то изнутри. Но лицо его, каменея скулами, молчало в хладнокровном напряжении, даже не человеческом, и оплывало воском встречных огней, блесков, что виделись в прозрачно-сумеречном, еще не зеркальном оконце тамбура, вскруженные по ту сторону мчащимся во весь дух поездом.
Матюшину делалось все теплей, как давно ни с кем из людей не было. Добрый с узбеком, от ощущения этого добра в себе и обрел он такой душевный покой, что даже в тамбуре вонючем теперь укачивало его, будто в колыбельке. Раздобрившись, потащил он узбека за собой в кубрик, где вывалил ему все свои припасы. Но узбек ничего не хотел есть, он только говорить, рассказывать про себя хотел – и кивал заунывно головой, все вспоминая да вспоминая, точно клевал что-то иль бился лбом о незримую стену.
Полночи шатались они из тамбура в вагон, из вагона в тамбур. Да и не одни, никто не спал. Ходили уж толпами, потому что многие пропили все деньги, и облепливали тех, кто мог угощать, – и не знали, что станут есть, пить завтра. Только курево грошовое не перевелось. Кругом витал голодно-табачный дым, будто сам вагон тихонько тлел, искуривался. Ночь выходила неимоверно длиннее дня, какой-то кромешной. От ее громады и все казалось Матюшину громадным – вскрытые зазубренные консервные банки, что разинутые пасти; мелькнувший как через лупу человечий огромный глаз; махина-тамбур; огромные двуногие люди, – и с гулом срывались, неслись, падали, будто глыбы, все произносимые слова.
Он давно устал глядеть на узбека, различать его и слышал только его голос, то далекий, то близкий. Какая-то ночь, но другая, чужая. Загашенная темная казарма, зима. Надо стирать гимнастерку, надо быть в чистом. Выстиранную тайком, за полночь, узбек раскладывает сыроватую гимнастерку под простыней и спит на ней, сушит ее телом, утюжит – он говорит, что зимой надо сушить только телом. Подъем. Со всех сторон вскакивают, сыплются с коек горохом спящие люди, одеваются на скаку. Гимнастерка еще сырая, но гладенькая. Главное, что чистая и гладенькая, а что сырая – никто не видит. Их гонят строиться на мороз. Мороз страшный, лютый. Но узбек отчего-то рад. Матюшин его уверенный, спокойный голос слышит – он говорит, что скоро гимнастерка вымерзнет под шинелью и тогда перестанешь чувствовать ее и даже не заметишь, что за день она будет уже сухая. Так же сушат белье на морозе, вспомнилось Матюшину, хозяйки многие – постельное, рубахи, панталоны, ведь сушат, развешивают на веревке, но неужто оно и вправду высушивается, становясь твердым, как доска, и его потом не надо больше сушить? Значит, мороз действовать может, как солнце, ту же силу иметь, значит, жара с холодом – что ж, одно и то же? Узбек не ведает того – молчит, не знает, но гимнастерка-то на нем и вправду сухая. А подшиву он придумал сделать из белой клеенки, и никто не заметил. На ночь он только и протирал ее тряпочкой, и подшива была как новая, где-то отыскал он кусочек такой непрозрачной белой клеенки, как бумага. Он говорит, в сорокаградусный мороз им запрещали ушанкой пользоваться, вроде не такой сильный мороз, чтоб шапку развязывать. Это узбек говорит – уши отморозишь, будут гноиться, прилипать. Ох, холодно, ох, холодно! Самое страшное, говорит, что делает зима. Он из шинелки вырезал, где незаметно, пару крылышек и подшил их изнутри в шапку, чтоб можно было их отгибать, когда надо, и греть хоть кончики ушей, и никто не заметил. Еще говорит, что когда в кухонный наряд ходил, то от голода прямо из кипящего котла рукой хватал жратву. Зазевается повар – так он в котел, хватает, быстро сует в рот, глотает, прячет в живот. Поджидает. Хватает. Сует. Глотает. Главное – не бояться глотать кипящий кусок, потому что если срыгнешь его или промедлишь, то повар обернется, заметит, и тогда они, повара, накинутся и половниками побьют насмерть.