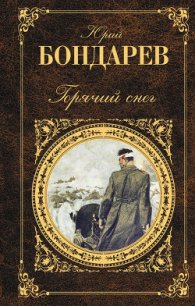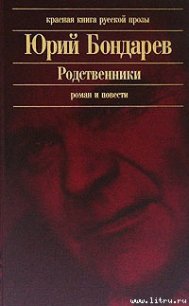Игра - Бондарев Юрий Васильевич (читаем полную версию книг бесплатно TXT) 📗
– Посмотрите, как по-современному написан лик святого Александра Невского.
– Да, да, удивительно, – отозвалась она шепотом.
Все было нерушимо и тихо, вверху, под куполом, стонали в любовной истоме голуби, в веерном солнечном свете отсверкивал кафельной плиткой недавно вымытый пол (в углу мирно стояло ведро, на нем сушилась тряпка), благолепные лики святых и раздвинутые царские врата под расписными сводами не угрожали напоминаниями о потерянной вере, о тяжких грехах, о земной тщете, не давили печалью, и по-прежнему было чисто на душе Крымова, и было необыкновенно хорошо чувствовать ясную молодость Ирины в этом старом храме, наполненном воркованием голубей и полевой тишиной.
Минут двадцать спустя вышли из церкви на зеленый холм (остатки городища), где внизу, в широкой впадине текла река, заставляя представить, какие улицы, какие стены русского города были когда-то тут, на острове, замкнутом водой, вблизи монастыря.
– Ну вот, пожалуйста, полевая гвоздика, – сказала она и легла на траву, ласково погладила ладонью цветы, затем повернулась на спину, мечтательно говоря: – Вот так бы лежать все время и смотреть в небо. Неужели оно было таким всегда? И когда нас не было, и в пятом веке, и в десятом? Какая все-таки благодать: солнце, тишина, стрижи над колокольней…
– Где-то я читал: поблизости с полевой гвоздикой должна быть и ягода… – сказал Крымов и, засмеявшись, отвел глаза, чтобы не видеть ее колен.
Он снял пиджак, кинул его на землю, лег рядом и, как по заказу, нашел вблизи землянику, крупную, перемлевшую на припеке, сорвал две ягоды со стебельком и протянул их Ирине. «Благодарю, поделим поровну», – сказала она и, продолжая глядеть в небо, рассеянно отъединила губами одну ягоду, а другую вернула ему. Он хотел увидеть и не увидел сок на ее губах, ибо по неподвластным памяти путям вспомнил неприкасаемую возлюбленную Мартина Идена, которая показалась герою доступной в тот миг, когда по-земному был замечен им красный сок черешни на ее губах.
– Скажите, есть ли на свете человек, свободный, как ветер? – спросила она низким голосом, будто повторяя слова роли, но этих слов не было у его героини.
– Человек счастлив тогда, когда время не имеет для него значения, – ответил Крымов ленивым тоном самовлюбленного героя из сценария и оперся на локоть, видя ее отрешенное от земного лицо, ее выгнутую юную шею, раскинутые на траве руки.
– Значит, мы с вами несчастливы, – сказала она разочарованно. – Раньше уходили спасать душу в монастыри и скиты. Счастливцы…
– Почему несчастливы? И почему счастливцы?
– Я не о том, – поправилась она и нахмурила брови. – Я не смогу сыграть женщину, которая проклинает слабого человека. Не так это надо. Он трус, ее муж, он обманул, но не предал ее и ушел. Она должна жалеть его, современного неудачника и эгоцентриста. Но скажите – есть Бог? Я спрашиваю серьезно.
– Есть мировая гармония, по-видимому.
– Тогда почему существует зло? Объясните.
– Дерево растет в высоту – чего оно хочет? Молнии?
– Конечно, нет…
– Тогда, значит, красоты, – продолжал он с шутливой доказательностью. – Красота помогает подыматься в небо, к недостижимому. Или вернее – она является лестницей, соединяющей землю с небом. А зло врастает в землю.
– Нет.
– Почему?
– Вы говорите – красота. Но что это такое, в конце концов? Совершенная красота греческих статуй – скука невероятная. Скучища, тоска. Идеальная классичность – боже, какая мертвечина! Нет, это не безупречность, нет! – договорила она страстно. – Красота – в пластике движения. Вот смотрите… – И она сделала плавный жест кистью и уронила руку на траву.
– Красота – это западня, – сказал он по-прежнему шутливо. – Прикоснулся – и она захлопнулась, и нет выхода.
– Чепуха, неправда. Всегда есть выход.
– Из этой западни нет ни у кого. Но я обобщаю рискованно. Здесь спасает чувство реальности и самоирония. И боязнь быть гостем на чужом пиру.
Она задумчиво посмотрела на него, заговорила с грустным непониманием:
– У вас загорелое лицо, светлые морщинки возле глаз. Я по сравнению с вами дурнушка, а вы действительно можете нравиться женщинам. Но почему вы видите во мне глупую девчонку и говорите со мной, как со школьницей, с ученицей девятого класса? По-моему, вот уже полгода вы меня тщательно изучаете как режиссер. Скажите искренне – я действительно бездарная?
– Ирина, отчего вы вдруг?
– Тогда скажите, почему люди так жестоки и недоброжелательны друг к другу?
– Ради чего вы задаете эти вопросы, Ирина?
– Не важно. Почему скромность стала уже как порок?
– Да в чем дело? Я озадачен…
– Почему доброе, сокровенное вызывает насмешливую улыбку? И в то же время поклоняются пошлейшей моде, дурацким джинсам, жуткой музыке, какой-нибудь сиюминутной заграничной звезде…
– С вами что-то случилось?
– Вы ответьте, Вячеслав Андреевич, если не считаете меня глупенькой танцовщицей. Многие считают, что балерины, или танцовщицы, почти все глупенькие…
– Не все, ясно же, – сказал Крымов, несколько встревоженный переменой ее настроения. – Хотите знать, что я думаю? Мы, Ирина, часто идеализируем человека, а он еще сознанием до многого не дорос. Однажды я был очень удивлен, когда узнал, что только два с половиной миллиметра серого мыслящего вещества в наших головах… жалких два миллиметра отделяют нас от животного. А все остальные – пять миллиметров – инстинкты, инстинкты.
– Вы снова говорите со мной, как с ребенком, а не серьезно, как я хочу.
– А если совсем серьезно, Ирина, то современному гомо сапиенсу часто не хватает поступка, потому что делать добро всегда трудновато и хлопотно. Говорить друг другу правду – иногда выглядит близко к глупости, иногда даже небезопасно. Поэтому вместо поступка мы привыкли очень легко судить людей. А надо уметь прощать. Ни черта не умеем…
Ирина сорвала травинку, прикусила ее зубами.
– Меня сегодня судили… и очень жестоко, – тихо и, казалось, равнодушно сказала она после молчания. – Утром на студии я услышала разговор около гримерной. Там были актеры, и они…
– Кто?
– Если вы будете спрашивать «кто», я замолчу.
– Простите, Ирина. Так что было около гримерной?
– Я случайно услышала: одна актриса сказала обо мне: «Ее взяли на главную роль, потому что она любовница Крымова. У него губа не дура. Но какая из неудавшейся балерины драматическая актриса?» Я не понимаю, за что они так не любят меня. Что я им сделала плохого?..
– О, завистливые страусихи, черт бы их взял! – выругался Крымов, не сдержавшись. – Самые грубые комплименты расточают только бесталанному гению, который не способен соперничать с ними!
– Вы не любите актеров?
Он давно привык к неожиданностям взаимоотношений в актерской среде, к изменчивости симпатий, к холодной вежливости, к приторной доброжелательности соперников, к беззлобному коварству, к едкой ухмылке скепсиса, к преувеличенным крикам хвалы и толчее на премьерах, умиленному восторгу, высказываемому счастливо преуспевающему, прославленному коллеге, новоиспеченному кумиру, которого непонятно почему суетливо торопятся поздравить, в упоении толкаясь локтями («Великий! Талантище!»). Он привык к манерной речи наскучивших знаменитостей, к превеселой наглости и изысканной предупредительности его и ее, презирающих и едва терпящих друг друга, но вынужденных по воле режиссера изображать на съемочной площадке влюбленную пару, – привык ко всему тому, что составляло быт, работу актера и его связь с ними, в общем-то людьми незлобными, терпеливыми, покорными, порой наивно-доверчивыми, готовыми в минуты аплодисментов на премьере облиться перед экраном слезами над своей и чужой игрой. Крымов знал и то, как губительно разит их яд кулуарных упредительных репутаций, созданных завистливыми языками бывших, теперь обойденных кумиров или непризнанных талантов. Он знал и то, что приглашение и утверждение Ирины на главную роль заварит это язвительное зелье, ибо видел, что в дни кинопроб за ней следили каким-то всасывающим взором и ассистенты, и осветители, и актеры из других групп, словно бы по ошибке заходившие в павильон. Ее бледное лицо, полувиноватая, полупечальная улыбка, ее стеснительность наталкивались в эти дни либо на неестественную приятность, либо на великолепно сыгранное бесстрастное хладнокровие киноизвестностей, назойливых претенденток на роль главной героини («Возьмите меня, Вячеслав Андреевич, героиня-то моя!»). Но все это, без труда замечаемое Крымовым, нисколько не беспокоило его, уже познавшего среду неустанного соперничества и постоянной возни вокруг эфемерной и тем не менее жаждаемой славы: такова, по его мнению, была профессия актера. Однако профессия эта все же не позволяла перешагивать хоть и зыбкие, но определенные рамки, и отрава ревности переставала изливаться на счастливца, едва он был утвержден на роль, и тут наступало выжидательное молчание, говорившее о том, что время – неподкупный судья и оно раскроет истину, обнажит и выявит всему миру постыдную ошибку постановщика картины, сделавшего капризный выбор, «обеспечившего» неуспех фильму. Обычно Крымов посмеивался над этой невинной мечтой о возмездии, что обязано настигнуть заблудшего режиссера, но ядовитый разговор актрис у гримерной, намеренно начатый почти в присутствии Ирины, удивил и разозлил его неуемной женской мстительностью.